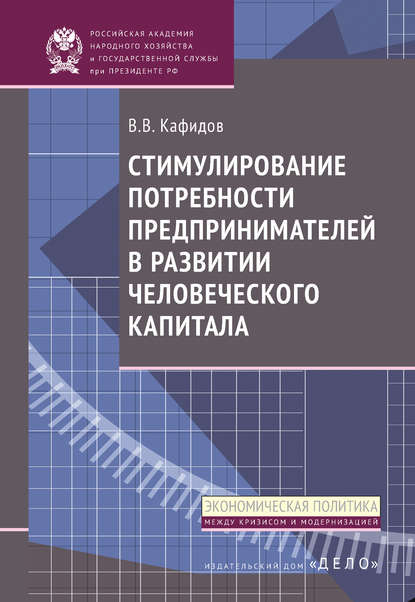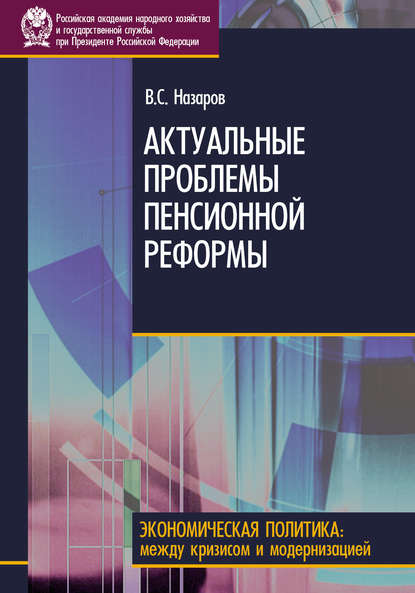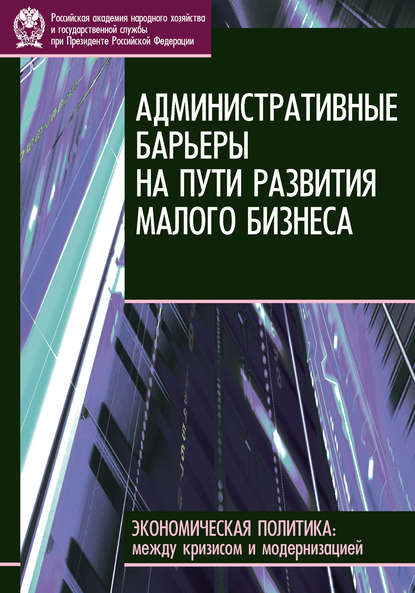Истоки конфликтов на Северном Кавказе
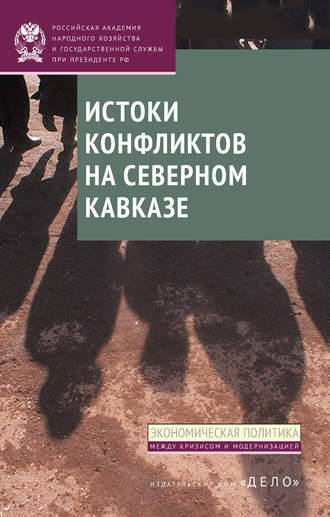
Полная версия
Истоки конфликтов на Северном Кавказе
Жанр: учебная и научная литературамонографиигуманитарные и общественные наукисоциологиясовременное политическое положениевнутренняя политиканациональная политикатерроризмСеверный Кавказрелигиозные конфликтыполитический кризисполитические конфликтымежнациональные конфликтызнания и навыки
Язык: Русский
Год издания: 2016
Добавлена:
Серия «Экономическая политика: между кризисом и модернизацией»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу