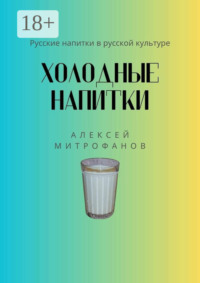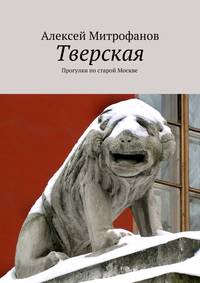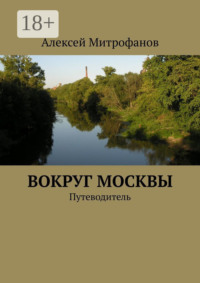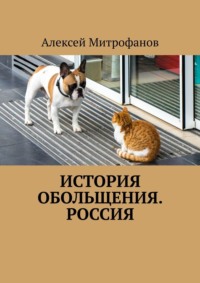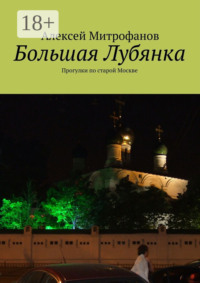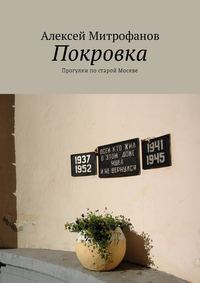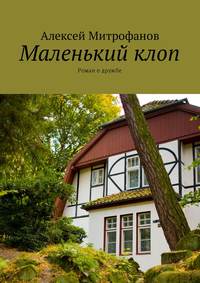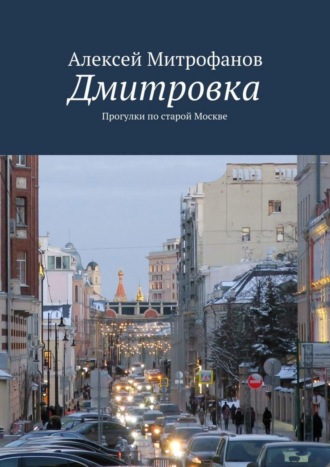
Полная версия
Дмитровка. Прогулки по старой Москве
А спустя два года в этих стенах «многомиллионные народы Советского Союза… вынесли свой приговор главарям подлых банд фашистских агентов – троцкистско-зиновьевским шпионам, вредителям, диверсантам – Зиновьеву, Каменеву, Пятакову, Серебрякову и другим».
В это время здесь властвовал другой уже вождь – несколько иного склада, с несколько иной харизмой. Анатолий Рыбаков писал в романе «Тридцать пятый и другие годы»: «14 мая 1935 года Сталин приехал в Колонный зал Дома союзов на торжественное заседание, посвященное пуску Московского метрополитена.
Глядя на сидевших в зале молодых людей – строителей метро, на их радостные, веселые лица, обращенные только к НЕМУ, ждущие только ЕГО слова, он думал о том, что молодежь за НЕГО, молодежь, выросшая в ЕГО эпоху, – это ЕГО молодежь, им, детям из народа, он дал образование, дал возможность осуществить свой трудовой подвиг, участвовать в великом преобразовании страны. Этот возраст, самый романтичный, навсегда будет связан в их памяти с НИМ, их юность будет озарена ЕГО именем, преданность ЕМУ они пронесут до конца своей жизни.
Его мысли прервал Булганин:
– Слово имеет товарищ Сталин.
Сталин подошел к трибуне.
Зал встал… Овация длилась бесконечно…
Сталин поднял руку, призывая к спокойствию, но зал не утихал, все хлопали в такт, это было похоже на удары по громадному барабану, и каждый удар сопровождался громовым скандированием одного слова: «Сталин!», «Сталин!».
Сталин привык к овациям. Но сегодняшние овации были особенными. Его приветствовали не чиновники, не комсомольские бюрократы, а простые рабочие – бетонщики, проходчики, сварщики, слесари – строители первого в стране метрополитена. Это народ, лучшее из народа и будущее народа.
Аплодисменты сотрясали зал, – юноши и девушки вскакивали на кресла, кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Великому вождю товарищу Сталину – комсомольское ура!»».
Действовал здесь театр под названием «Рабочий отдых». «Театр своими пятью бригадами концертно-эстрадного характера и двумя бригадами кукольного театра обслуживает преимущественно дома отдыха», – сообщала реклама. В репертуаре же были спектакли: «Индульгенция», «Крепи Осоавиахим», «Гармонь», «Бравый солдат Швейк», «Канитель» (по Чехову) и «Неудачный день» (Зощенко). Можно сказать, репертуар перекрывал весь существовавший в то время драматургический диапазон.
Здесь же, в Доме Союзов проходил показательный процесс над так называемыми врачами-вредителями.
В Великую Отечественную именно Дом Союзов был единственной в Москве отапливаемой концертной площадкой. В первую очередь поэтому здесь состоялась московская премьера знаменитой Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Здесь же проходили репетиции. Автор писал: «Объединенный оркестр Большого театра и Всесоюзного радиокомитета закончил работу над моей Седьмой симфонией. Симфония выучена превосходно и исполняется мастерски, с настоящим артистическим воодушевлением… Я прослушал все репетиции, в том числе и генеральную, и я счастлив, что мой авторский замысел на концерте будет так хорошо донесен до слушателя… С большим волнением и радостью я жду тот день, когда в Москве, в столице нашей родины, прозвучит моя Седьмая симфония».
Там же, спустя десятилетие, композитор принял сразу две награды – звание народного артиста СССР и премию «За укрепление мира между народами». С прочувственной речью выступил И. Эренбург. Он сказал: «Ваша музыка обошла пять частей света, и повсюду она утверждала, что человек может понять другого. Вы приблизили миллионы людей к пониманию других и этим помогли народам отстоять их высшее благо – мир. Вы сделали это, не отрекаясь от сложности человека и от сложности искусства, не прибедняя и не упрощая душевный мир наших современников».
Шостакович же ответствовал: «Мне сегодня хочется с глубоким удовлетворением отметить радующие нас успехи сторонников мира во всех станах. Несмотря на огромные трудности, на злобное противодействие алчных и жестоких агрессоров, труженики всех стран и всех народов героически укрепляют великое и благородное дело мира, преграждая тем самым путь губительной, смертоносной войне. Высокая награда обязывает меня бороться за мир и дружбу между народами так, чтобы всегда с честью носить высокое звание сына советского народа, стоящего во главе движения борьбы за мир и дружбу».
Потрясающе непробиваемые штампы советских времен.
Но сегодня советской эпохи в жизни дома как будто и не было. Здесь все так же поют и танцуют, как пели и танцевали во времена гастролей Клары Шуман.
Ее привозят и в Собранье.Там теснота, волненье, жар,Музыки грохот, свеч блистанье,Мельканье, вихорь быстрых пар,Красавиц легкие уборы,Людьми пестреющие хоры,Невест обширный полукруг,Все чувства поражает вдруг.Вот всей Москвы зимой по вторникам свиданье:Наш Русский дом, Дворянское собранье.Блаженство, рай годов былых,О зала дивная, единственная в свете!Как сладкий сон, мы помним их,На зеркальном твоем паркетеИ тихий экосез, и быстролетный вальс,И этот польский, в добрый час,Наш польский длинный, вечный польский!..А эти хоры меж колонн,Картинный вид на бальный мир московский,На этот Руси сбор со всех сторон…За окнами – снега, степная гладь и ширь,На переплетах рам – следы ночной пурги…Как тих и скучен дом! Как съежился снегирьОт стужи за окном. – Но вот слуга. Шаги.По комнатам идет седой костлявый дед,Несет вечерний чай: «Опять глядишь в углы?Небось все писем ждешь, депеш да эстафет!Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве балы».«Дом благородного собранья»Культурным домом стал теперь —Центральным домом профсоюзов, —Я выхожу из вагонаИ лорнирую неизвестную местность.А со мной – всегдашняя бонна —Моя будущая известность.И прежде чем укрыть в могилеНавеки от живых людей,В Колонном зале положилиЕго на пять ночей и дней…И потекли людские толпы,Неся знамена впереди,Чтобы взглянуть на профиль желтыйИ красный орден на груди.Текли. А стужа над землеюТакая лютая была,Как будто он унес с собоюЧастицу нашего тепла.И пять ночей в Москве не спалиИз-за того, что он уснул.И был торжественно-печаленЛуны почетный караул.
СТО
Дом Совета Труда и Обороны (Охотный ряд, 1) построен в 1935 году по проекту архитектора А. Лангмана).
В начале двадцатого века (и, в частности, в первые годы после революции) сам Охотный ряд был двусмысленным местом. С одной стороны, грязный, антисанитарный рынок, маловоспитанные продавцы и покупатели, словом – тяжелое наследие царского прошлого во всей своей сомнительной красе. С другой же стороны – самый что ни на есть исторический центр с более или менее, но все же ценными памятниками архитектуры и культуры прошлого. То есть, с одной стороны, надо, вроде бы, все посносить. С другой – не стоит.
Перевесил первый аргумент. Но тогда, в двадцатые, ревнители истории сопротивлялись. Игорь Грабарь писал: «В последнее время ходили слухи о чудовищном проекте сломки… зданий и постройки на всем протяжении от Дома Союзов до Тверской гигантского небоскреба для Госбанка. Слухи эти встревожили всех любителей московской старины. Действительно, что может быть нелепее с точки зрения азбуки целесообразного городского строительства, как это ненужное строительное уплотнение и без того уплотненного центра, с неизбежным затемнением окружающей местности. Не застраивать небоскребами надо этот центр, а наоборот, раскрыть его следует, удалив мешающие наросты, облепившие со всех сторон усадьбы Голицына и Троекурова, и разбив здесь сквер с чудесной, единственной архитектурной перспективой. Когда этот сквер будет разбит, он объединит в одно целое как эти два замечательных дома, так и соседний Дом Союзов… На месте грязных, позорных для мирового города задворков появится чудесный уголок, достойный Москвы, кующей новую жизнь, но охраняющий старину».
К мнению Грабаря не прислушались. Палаты Троекурова остались (их по сей день видно от Георгиевского переулка), а голицынский дворец и многое другое начали сносить.
Общественное мнение смирилось с этим фактом и переключилось на другие проблемы. Несмотря на то что эти палаты необычайно поражали москвичей и гостей города. К примеру, французский посол де Невилль уверял: «Дом Голицына – один из великолепнейших в Европе». А многие и вовсе называли это здание не иначе как Восьмое чудо света.
Чудо, однако же, сменилось на другое. Путеводитель по Москве 1937 года писал: «По другую сторону Охотного Ряда одно из красивейших зданий новой Москвы – Дом Совнаркома СССР, построенный в 1935 г. по проекту архитектора А. Я. Лангмана. Светло-серый фасад дома с лепным гербом Советского Союза с трех сторон облицован натуральным, так называемым протопоповским камнем. Цокольная часть и три входа выложены лабрадором и карельским гранитом. Здание очень хорошо отделано внутри».
По непонятным причинам тот дом сделался притягательным для людей искусства, при том самых разных профессий. В частности, художник Юрий Пименов изобразил его на заднем плане своей картины «Новая Москва». Архитектор Гольц включил его в четверку основных архитектурных достижений «молодой страны Советов»: «У нас есть хорошее, настоящее, новое – наше. Есть в Доме СТО, есть в метро, на канале имени Москвы и на выставке». Писатель же Евгений Габрилович вроде описывал гостиницу «Москва», однако речь вел все равно о доме Лангмана (в то время занятом другой структурой): «Такси останавливается у подъезда, украшенного бронзой и мрамором. Приезжий вступает в вестибюль… Номер гостиницы… Приезжий раздвигает штору. Он видит Охотный ряд. Огромный дом СНК высится перед глазами… Дом союзов – столь величественный среди былых охотнорядских лачуг и столь приземистый сейчас, в окружении великанов. Таков Охотный ряд наших дней».
Искусствовед М. А. Ильин писал: «Устремленные вверх формы здания, спокойное, даже торжественное членение стен лопатками, большие широкие окна, как и завершение центральной части, где расположен государственный герб, – все говорит, что перед нами крупное общественное, государственное здание. Оно построено в 1932—1935 годах по проекту архитектора А. Лангмана. Сооружением б. дома Совета Труда и Обороны было положено начало реконструкции старого Охотного ряда и центра столицы. Облицовка стен здания светлым известняком, а цоколя гранитом усиливает впечатление монументальности».
Дом СТО (популярное в то время сокращение: от Совета Труда и Обороны) проектировался в годы, когда на смену архитектурным приемам и формам 20-х годов стали приходить формы классики, что должно было придать советской архитектуре большую величественность и выразительность. Хотя Лангман и использовал отдельные классические элементы, как каннелированные лопатки и аттик на фасаде, но он не пошел по пути непосредственного переноса в архитектуру форм прошлого. Государственная Дума – строгое, сдержанное по архитектуре здание.
Даже такой, казалось бы, далекий от идеологии писатель, как Юрий Нагибин, говорил о здании: «Этот дом по благородству и по простоте форм едва ли не самое удачное в Москве создание современной архитектуры».
Вошло это здание и в московский фольклор. По легенде, оно было заминировано в 1941 году, когда возможность сдачи города немецкой армии была реальной, а разминировано только спустя сорок лет – забыли. Чудесным образом взрывчатка все это время пролежала в здании тишайшим образом.
Давно забытая обитель
Здание Центральной московской электростанции (Большая Дмитровка, 3/5) было построено в 1888 году по проекту архитектора В. Шера.
Это место сделалось известным еще в шестнадцатом столетии: здесь размещалась Дмитровская слобода, в которой выделялся среди прочих богатый двор Юрия Захаровича Кошкна-Кобылина, дяди царицы Анастасии Романовны. Когда Юрий Захарович скончался, тетушка той же царицы Феодосия Юрьевна Романова устроила вместо двора женский Георгиевский монастырь (в то время Юрий и Георгий считалось одним и тем же именем).
Зато некрополь здесь был если и не царский, то не слишком далеко от царского ушедший. В этом монастыре, к примеру, захоронен был Никита Зотов, думный дьяк, первый учитель Петра Первого. Тот самый легендарный деятель, о котором Николай Карамзин говорил: «А вы задумайтесь, разве это не примечательно, что рядовой дьяк из приказов, выбранный в школьные учителя царским детям, мог дать царевичам представление не только о грамоте, но и о литературе – российской литературе, которая еще только становилась общеизвестной потомкам и узнаваемой».
Кстати, этот самый Зотов был одновременно и учителем, и собутыльником царя – во «всешутейшем и всепьянейшем соборе» он носил прозвище «архиепископ Прешпургский, всея Яузы и всея Кокуя патриарх» или запросто: «святейший и всешутейший Аникита».
Там же, по соседству с «Аникитой» лежал князь-кесарь Федор Ромодановский, один из самых высокопоставленных придворных при Петре Великом. Никто, даже сам царь не позволял себе въезжать к нему на двор – все посетители оставляли свой транспорт снаружи. А князь Б. Куракин о нем говорил: «Сей князь был характеру партикулярнаго; собою видом, как монстра; нравом злой тиран; превеликой нежелатель добра никому; пьян по вся дни; но его величеству верной так был, что никто другой. И того ради, увидишь ниже, что оному (Петр Великий. – АМ.) во всех деликатных делех поверил и вручил все свое государство».
А Ромодановский, меж тем, иной раз пререкался с самим государем. Однажды, например, царь Петр ждал в Воронеже двух корабельных мастеров – Скляева и Верещагина, однако выяснилось, что они задержаны в Москве князем Ромодановским. Царь писал ему: «В чем держат наших товарищей Скляева и Лукьяна? Зело мне печально! Я зело ждал всех паче Скляева, потому что он лучший в сем мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебя судит! Истинно никого мне здесь нет помощников. А чаю, дело не государственное. Для Бога освободи (а какое до них дело, я порука по них) и пришли сюды».
И князь Ромодановский отвечал: «Скляева и Верещагина я не задержал: только сутки у меня ночевали. Вина их такая: ехали Покровскою слободою пьяны и задрались с солдаты Преображенского полку: изрубили двух человек солдат, и по розыску явились на обе стороны неправы. И я, розыскав, высек Скляева за его дурость, также и челобитчиков, с кем ссора учинилась… В том на меня не погневись: не обык в дуростях спускать, хотя б и не такого чину были».
Третьим обитателем сего блистательного пантеона был екатерининский фельдмаршал А. Б. Бутурлин, начавший карьеру денщиком Петра Первого и дослужившийся чуть ли не до горних высот. О нем один из современников писал: «Великоревностен, верен и неусыпен был, как истинный патриот, во исполнении высоких должностей государям своим и отечеству, сей великоименитый и приснопамятный муж толико мужествен, готов и неустрашим, как достойный христианин оказался».
И, разумеется, тремя этими государственными деятелями список знаменитостей, схороненных на здешнем кладбище, отнюдь не ограничивается.
После московского пожара 1812 года монастырь был упразднен, а главный храм обители, тоже Георгиевский, сделался обычным приходским и просуществовал до 1930 года. Здесь, кстати, в 1922 году отпевали режиссера и певца Оленина. Отпевали с размахом. Один из очевидцев вспоминал: «Я был у Георгия. Полна церковь артистической братией (и сестрами). Видел, между прочим, Станиславского, Москвина, С. И. Зимина и Трубина. Почему-то не артисты пели, а хор Данилина под его управлением. Пел замечательно. Еще бы, ведь и „во гробе спящий“, и его товарищи такие знатоки пения, каких Данилин и в Охотном ряду у Пятницы не увидит».
А здание, ныне стоящее на углу Георгиевского переулка и Большой Дмитровки, было построено в 1888 году и сразу же сделалось популярным среди москвичей. Не удивительно, ведь ничего подобного в городе раньше не было. А размещалось здесь учреждение таинственное – электростанция. Первая в Москве.
Поскольку она была первая (а значит, на момент открытия – единственная), то называлась просто – Городская или же Георгиевская. Мощность у нее была всего лишь 800 лошадиных сил. Это, выражаясь современным языком, 612 киловатт. Однако же в те времена лошадь была понятнее, чем киловатты, а потому и мощность новой станции была округлена как раз до сотни лошадиных сил.
Со временем построили новою, мощную станцию на берегу Москвы-реки. Здесь же некоторое время устраивали выставки, затем оборудовали гаражи, а в 1924 году открыли первый (снова – первый) автобусный парк.
Появление в городе нового транспорта поначалу казалось явлением не слишком значительным. В частности, «Вечерняя Москва» его и вовсе не заметила. Ее беспокоили дела поважнее – «Адвокаты отравляют дух», «Порча телефонной сети» и «Движение заразных болезней». Зато «Рабочая Москва» отметила это событие рекламным объявлением.
Первые автобусы главным образом предназначались для приезжих. Их было восемь штук, и они ходили от Казанского вокзала к Белорусскому. Но не по прямой, а через центр – Мясницкая, Кузнецкий мост, Охотный ряд и дальше по Тверской.
Поэты Москвы воспевали трамвай (в первую очередь, «Аннушку»), троллейбус (ставший уже хрестоматийным «синий троллейбус» Окуджавы), метрополитен как самый прогрессивный транспорт. Про автобус же молчали. Он был не для романтики, а для того, чтобы людей возить. И с этой ролью достойно справлялся.
Хотя в автобусах, как и в трамваях, люди проводили вполне существенную часть своего дня, так же знакомились, ругались, воровали друг у друга деньги, дремали и читали книжки. Было время, по Москве ходили даже двухэтажные автобусы. Но от этого английского пижонства быстро отказались.
Ныне в этом здании находится выставочный зал «Новый манеж».
Актеры у Ностица
Дом графа Ностица (Большая Дмитровка, 4/2) построен в 1900-е годы по проекту архитектора А. Мейснера.
Вообще-то этот дом гораздо старше. Внутри его находится скрытое мейснеровским фасадом двухэтажное строение, некогда принадлежавшее семье Раевских. Сюда к своему приятелю Александру Раевскому иной раз захаживал Пушкин. И даже посвятил хозяину стихотворение «Демон»:
Но в действительности Пушкин все-таки любил своего «злобного гения» – несмотря на всю его язвительность и видимую отстраненность.
Тут проживало множество актеров – и до революции, и после. Москвин, Вишневский, Горский, Леонидов, Яблочкина. Причина, в общем-то, проста. Вокруг – обилие театров, притом самого первейшего разбора. Здесь проживал актер Качалов. Сын его, В. Шверубович (что не удивительно, Качалов – псевдоним) принимал пусть и пассивное, но постоянное участи в актерской жизни. В результате он оставил потрясающие мемуары: «То ли родители меня считали глупее, чем я был, то ли просто по легкомыслию и молодости они не задумывались о том, что можно и чего нельзя говорить при четырехлетнем ребенке, – не знаю. Но говорили при мне обо всем, и я все понимал. Правда, многое, почти все, я понимал навыворот или, во всяком случае, очень неправильно. После полусотни (с большим гаком) лет трудно восстановить в памяти детские представления, но некоторые каким-то чудом еще всплывают в памяти…
Постом в Москву приезжали «на бюро» актеры из провинции. Приезжали цветущими, нарядными. Мужчины носили цепочки с брелоками, золотые пенсне, перстни с печатками, щеголяли серебряными портсигарами с массой золотых монограмм, спичечницами с эмалью, тростями с ручками в виде серебряной русалки. Галстуки были заколоты золотыми булавками с жемчужиной или камеей. Рассказывая о своих триумфах, они рокотали хрипловато-бархатными басами и, «скромно» прерывая себя жестом, стучали по столу твердо накрахмаленными круглыми манжетами, в которых позвякивали большие тяжелые запонки.
К нам они приходили с цветами, коробками конфет, щепочными корзиночками с пирожными и птифурами; мне лично приносили какую-то особенную грушу, какой-нибудь «дюшес», причем подчеркивалось: «с твою голову». Женщины звенели браслетами, тонкими пальцами перебирали кольца, из высоких причесок падали черепаховые шпильки («Поклонника потеряете!» – «Ах!» – Страдальчески-загадочные улыбки морщили губы, подтекст: «Не страшно, их столько!..»)».
Здесь, у Шверубовичей прятался от полиции Бауман. Сын актера писал: «Помню рассказ, почти сказку, которую мне рассказывала мать, сдерживаясь, чтобы не заплакать, что с ней случалось тогда очень, очень редко: она была совсем не слезлива. Рассказ был о добром человеке, за которым гнались враги; он убежал от них и долго ходил, больной и голодный, по улицам под дождем и снегом, в ветреную ночь поздней осени. Но он знал, что есть один дом, где его примут, обласкают, обогреют, накормят, напоят горячим чаем с малиновым вареньем и уложат спать в чистую, теплую постель под толстое пушистое одеяло. Там он будет в безопасности, ни один враг не будет знать, где он, там он сможет отдохнуть и подлечиться. Он уже предвкушал все это, когда поднимался по лестнице этого дома, но, когда позвонил и ему отворили, женщина, встретившая его, задала ему какие-то нелепые, непонятные вопросы и, еле выслушав его сбивчивые, бестолковые ответы, закрыла дверь перед его носом. Он, шатаясь от слабости, спустился и снова вышел под снег и дождь, но надежды на приют у него уже не оставалось.
Самое для меня тогда непонятное было то, что мать моя, такая беспощадная ко всем трусам, безжалостным, на мое возмущение и злобные слезы по адресу этой женщины сказала: «Она не виновата, она иначе не могла».
Это была не сказка – так оно было на самом деле: мать обещала принять и спрятать человека, который придет к ней в ту ночь, но он должен был произнести определенным образом построенную фразу-пароль, который Мария Федоровна Андреева заставила мать вызубрить абсолютно точно наизусть и велела никого другого, точно не знающего этот пароль, допустившего малейшую ошибку в его произнесении, не впускать. Больной Бауман – а это был он – забыл пароль, и мать его не впустила. Она была права: это мог быть охранник, и Бауман, придя после него, попал бы в ловушку. Но мать почувствовала, что пришел тот, кого она ждала. Она, выждав какое-то время, окольными путями помчалась к Марии Федоровне, рассказала ей о внешности приходившего, и та с огромным трудом, после ночи беготни по всей Москве, под утро разыскала Николая Эрнестовича в каком-то извозчичьем трактире, напомнила ему пароль, и когда он вторично пришел в наш дом, то был принят и прожил у нас несколько недель».
Атмосфера в доме у Качалова была настолько доверительная и простая, что сын его сдружился с революционером, скрывающимся здесь от правосудия: «Помню… смешливого „дядю Тигра“, как я его почему-то называл, веселую возню с ним, щекотку от мягкой бородки, которая попадала мне за шиворот, когда он, изображая зверя, загрызал меня – охотника. Ярче всего помню веселые, совсем не страшные глаза „зверя“ и щекотно-ласковую бородку – ведь бороды в нашем актерском доме были редкостью».
Этим «Тигром», собственно, и был Николай Бауман.
Кстати, удобное на первый взгляд местоположение дома Ностица в революцию вдруг обернулось неприятной стороной: «В декабре, когда началось вооруженное восстание, мы жили в самом центре города, дом наш смотрел на боковой фасад Большого театра, на боковой фасад Солодовниковского театра (где была опера Зимина) и на Благородное собрание (ныне Дом Союзов). И хотя окна нашей квартиры выходили во двор, место казалось уж слишком центральным и потому опасным. Говорили, что эсеры-боевики заняли Большой театр и укрепляют его, что верные правительству войска будут разносить его из пушек; говорили, что в Благородном собрании революционерами спрятана пушка, которая будет стрелять по войскам».
Но ничего, дом выстоял. А в короткий промежуток относительного спокойствия между двумя революциями вновь сделался одним из притягательнейших уголков Москвы. Во всяком случае, квартира Шверубовичей. Вадим Васильевич писал: «Дом моих родных был всегда… открытым домом. И. М. Москвин называл его «Бубновским бесплатным трактиром» («На дне»). Народ бывал почти каждый вечер, вернее, каждую ночь. После спектакля, часам к двенадцати, приходили к нам ужинать и сидели часов до двух-трех. Не знаю, много ли пили, думаю, что не особенно, так как пьяных не бывало, но вино (вернее, водка и коньяк) присутствовали обязательно. Еда была несложная, то, что оставалось от обеда, и селедка, огурцы, маринады. Часто гости приносили с собой какие-нибудь деликатесы: кто украинское сало, кто замороженные сибирские пельмени, волжскую стерлядь, петербургского сига, рижские копчушки или угри. Эти вещи ценились, именно если были привезены кем-нибудь из этих мест, хотя, вероятно, ими торговали и в Москве. Отцу, например, приезжие из Вильно всегда привозили литовскую полендвицу, она у нас не переводилась.
Кроме этих еженощных сидений раза три-четыре в сезон устраивались большие вечера уже с приглашениями и с подготовкой. Бывало по двадцать пять – тридцать человек. Мать тщательно занавешивала окна и останавливала часы, чтобы рассвет и стрелки часов не разогнали гостей. Видимо, бывало очень весело и интересно, потому что засиживались до позднего утра – расходились, когда надо было идти на репетиции или на утренние спектакли. Меня часто переселяли на эту ночь куда-нибудь к знакомым, чтобы мое присутствие не стесняло гостей и чтобы я мог нормально спать. Иногда же утром, когда мне не удавалось устроить ночлега вне дома, я после почти бессонной ночи (так как заснуть при шуме споров, пении, музыке было трудно) выходил в столовую – там еще пили кофе и спорили об искусстве, боге, поэзии одни, пели под гитару другие, дремали на диване в ожидании, пока подойдет время идти на работу, третьи. В разные годы в нашем доме бывали многие люди театра и литературы».