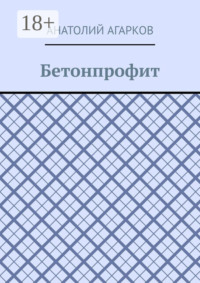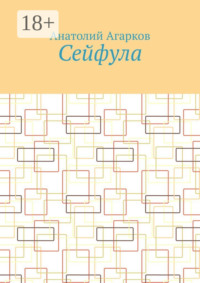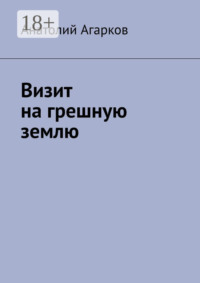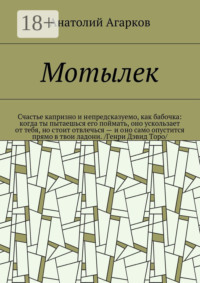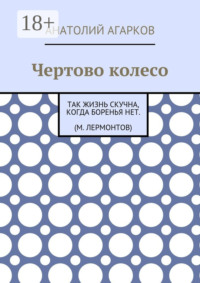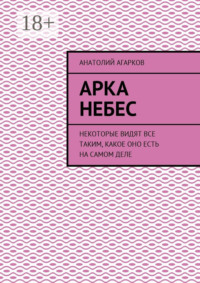Полная версия
Три напрасных года
Кто-то хихикнул.
Ничков дёрнул головой:
– Пусть ваша мама дома смеётся, когда похоронку получит на вас.
Дальше главный старшина повёл такие речи, что мы и про футбол забыли. Где служить придётся? Одного-двух, лучших из лучших, оставят инструкторами в роте. Кто-то попадёт мотористами на ПСКРы (пограничный сторожевой корабль). Остальные разъедутся по бригадам малых катеров. Две таких на Чёрном море – в Балаклаве (Крым) и Очамчира (Грузия), на Дунае – в Киликии, под Ленинградом – Высоцк, на Амударье – Термез. Но там нет «Аистов». Там ходят на «Дельфинах», проект 1390. Слишком много песка в воде – водомёт «Аиста» не выдерживает. Ну, и Дальний Восток – Амур, Уссури. Примерно в таком порядке и распределяют – сначала отличников, потом середнячков, а плохишей – на остров Даманский….
Мы с Постовальчиком переглянулись – даешь Анапу!
Весенники уже сдали свои экзамены – разъехались. Старшин всего отряда собрали в одну роту. Они ходили на вечерней прогулке строем, но подруку. Пели:
– Ой, мороз, мороз, не морозь меня….
Абрикосы зацвели. Весна!
Ваше благородие госпожа Удача
Для кого-то ты лицом, а кому иначе
На Даманский остров плохишей свезли
Не везёт нам в службе – повезёт в любви.
Действительность опрокинула все ничковские посулы. Нас, круглых отличников, в роте получилось десятка полтора. Инструктором оставили Уфимцева: ещё бы – такая выправка! Просто манекен – не человек. Вовчик, кстати, на спортроту тоже пролетел. Был в нашей смене направляющий Шура Аполовников – не блистал, как Постовал, одноразовым успехом, но постоянно где-то участвовал. Участвовал и молчал. Под малый дембель оказалось – готовый многоборец, очень необходимый спортроте человек. Постовальчику кроме восточной границы ничего не светило. А у меня, я надеялся, ещё был выбор – Балаклава, Очамчира, Киликия. На худой конец, Высоцк, что под Ленинградом. Но приехал «покупатель» – лейтенант молоденький – из какого-то Дальнереченска на Уссури. Да-да, той самой, где остров Даманский, куда, по утверждению главного старшины, плохишей ссылают. И забрал с собой семерых самых смелых, самых первых – Женьку Талипова, Сашку Захарова, Лёшку Шлыкова, Славика Тюрина, Мишку Вахромеева, Чистякова (которого с большим трудом, но всё же убедил инструктор, что отца он не зарубил), ну, и Вашего покорного слугу. Не знаю, по какому принципу отбирал. Единственное, что нас объединяло, это малая Родина – Челябинская область. А может, он и не отбирал – взял, что подсунули.
Вывели нас на плац перед ротой, построили. Седов вещмешки проверил – чтобы в наличии были два тельника-майки, два плотных тельника (мы называли их осенними) и один с начёсом. Этот толстый и тёплый, как свитер, должен служить хозяину три года. Ещё выдали белые галанки и спортивные тапочки (в футбол играть?). Шинели лежали в скатках, а мы красовались в тёмно-синих суконных парадках и бескозырках – форма «три» называется.
Седов проверил всё и отошёл. Не было торжественных речей командования, не было марша «Прощание славянки». Обидно. Будто шарашку какую закончили, а не Отдельный Учебный Отряд Морских Специалистов. Дальневосточный лейтенант окинул нас орлиным взором и сказал просто, тихим голосом:
– Прощайтесь.
Я обнял Постовальчика:
– Прощай, брат. Может, свидимся.
– Прощай.
Вовка морду воротит – по-моему, он плакал и стеснялся слёз. У меня они тоже сами собой бежали, а я не стеснялся. Сели в автобус. Тут всю роту прорвало – свистят, бескозырками машут:
– Прощайте, ребята! Удачи вам! Отличной службы!
А мы смотрим в окна и молчим. Потому что они прощаются с нами, а мы ещё и с учебкой, со всей прекрасной Анапой и с самым синем в мире морем.
Мы были первыми. А потом, каждый день, команда за командой покидали Анапу бывшие курсанты одиннадцатой роты. Гулко стало в кубриках и тоскливо. Горстка последних решила устроить «прощальный вечер» старшине Петрыкину. Тот сразу после экзаменов и с начала малого дембеля перебрался ночевать в баталерку. Ребята пасли его, но Тундра был хитрым и не попадался. Терпение лопнуло – пошли дверь ломать. На шум Ничков притопал. Этот мог уговорить, этого уважали. Но спасал наш инструктор не Петрыкина – он так и сказал:
– Моряки, причём здесь дверь?
Знали ли об этом отцы-командиры? Думаю, Седов знал, но не вмешивался. Старший мичман, по моему разумению, полагал – раз присутствует прямой процесс воспитания курсантов инструктором, то имеет право быть и обратный. Это полезно. Ведь другие старшины не запираются на ночь в баталерку – так и спят на своих местах вместе с личным составом. Да-а, Петрыкину и я был не против пару раз в хавальник сунуть. Но наша команда далеко уже была от мест благословенных. Галопом проскочили до Волгограда, а здесь тормознулись на пару-тройку часиков. Не без пользы. Лейтенант, фамилия у него Берсенёв, говорит:
– Вы, парни, дайте домой телеграммы – в Челябинске пересадка и часов восемь-десять будем загорать на вокзале.
Тюрин, Шлыков и я, поколебавшись, пошли и дали – мол, буду в Челябинске такого-то, поезд такой-то, стоянка десять часов. Про стоянку – это чтобы много не платить. Почему колебался, спросите. Рассуждал: что родным делать больше нечего – меня встречать да провожать. Вон парни из провинции и не почесались даже. Тюрин со Шлыковым – городские, с ними всё ясно – на трамвайчик сел и на вокзале. Но очень мне хотелось маму увидеть, с отцом примириться. Я ему на день рождения «синявку» послал – форменную рубашка для мичманов и офицеров – а он и спасибо не сказал. Дуется старый. Приедет ли?
Вот он, Челябинск. На перроне полно народу. Высунулся в окно. Смотрю. Лица, лица…. Мама! Господи, приехали! Сестра вон.
Поезд ещё тормозит. Я толкаюсь к выходу бесцеремонно. Кто-то хватает меня за плечо:
– Эй, моряк, осади – куда прёшь?
Я поворачиваюсь, и мужик-верзила прячет руку. Я ещё не знаю, что моё лицо перепачкано сажей, и по щекам бегут слёзы. Тут, наверное, любой опешит.
Прыгаю с подножки вагона и попадаю в объятия отца. Потом мама, потом зять, потом…. Потом…. Сестра не хочет целовать:
– Какой ты грязный!
Вытирает своим платочком моё лицо.
Пошли в ресторан, выпили, разговорились.
– Чего не пишешь-то? – это я отцу.
– А ты?
Действительно. Послал телеграмму и ждал писем. Как пацан. Нет, как капризный ребёнок. Привык, чтоб родители за мной носились – ах, сыночка, ах, сыночек, не холодно ль тебе, не сыро? Блин, стыдно.
Сестра рассказала:
– Мы и забыли про папкины именины. Приходим, а он лежит в синей рубахе, которую ты прислал. Вот, говорит, сын на службе помнит, а вы….
Спустился в туалет. Смотрю – знакомый затылок. Подхожу.
– Закрыть и прекратить!
Он чуть было не закрыл, не прекратив. Колька! Здорово, сват!
На нём моя рубашка. Вещи я в общаге оставил, ребятам – носите, если подойдут. Значит, искал меня. Зачем?
– Пойдём в ресторан – у нас столик накрыт.
Поднимаемся.
– Ты как тогда отбился?
– Да, блин, думал, кранты – засунут пику под ребро. Но повезло. Выскочил на улицу – навстречу свадьба. Васька Прокоп младшего брата женит. Я в толпу вписался, они следом. Меня угостили, их уложили: Прокопы – парни крутые. А ты чего в армию смотался?
– В армию я бы не пошёл. А тут вакансия подвернулась в пограничном флоте – как не воспользоваться.
– Ну-ну….
Потом, уже прощаясь на перроне, как бы между пррочим, спросил:
– С Надюхой что?
Он плечами дёрнул – не знаю, мол, и не интересуюсь. Понятно.
Девчонка Славика Тюрина вдруг запричитала, закричала в голос, прощаясь. Плакала, конечно. А мне её истерика – как удар под дых. Смотрю, отец заморгал часто-часто. Мама тянет платочек к носу. Как же – сынуля на китайскую границу едет.
Колька обнял несчастную:
– Что ж ты так убиваешься? Я-то здесь, с тобой остаюсь.
Она доверчиво склонила голову на его грудь – Колька всегда девушкам нравился.
Тюрин высунулся из окошка:
– Это что за дела? Люда! Людка!…
Но состав загрохотал, набирая скорость, и перрон, и все, кто на нём был, остались позади.
На несколько минут тормознулись в Златоусте. Закатный час – солнце скрылось за горами, с них на город ползут сумерки. Перрон пуст и тих. И в этой тишине отчётливо и напряжённо, нарастая, зазвенели девичьи каблучки. А вы, наверное, и не знали, как это может за душу щипать – перестук женских каблучков. Как будто в сердце стучатся – ближе, ближе….
Чистяков стоит у вагона, широко расставив ноги, выпятив богатырскую грудь. Вихрем что-то под окном промелькнуло, и вслед за глухим ударом тел оборвался стук каблуков – далеко не дюймовочка повисла на чистяковской шее. Меня б таким ураганом смело к чёртовой матери.
Грех смотреть на чужие поцелуи, и нет сил, взор оторвать. Где же ты, моё счастье каблучковое? Спишь ли, ешь ли? Сидишь за партой, иль спешишь на танцы? Хоть намекни, как ты выглядишь. Где и когда найдёшь меня – истосковалась вся душа.
Подошли чистяковские родители. Ну, мамашка-то точно родная – косая сажень в плечах. А мужичонка с ней рядом плюгавенький – такого не жалко зарубить. Мать дождалась терпеливо, когда девушка Чистякова опустила, и притянула его голову к необъятной своей груди. Мужичонку допустили последним – и только к рукопожатию. Всё, Чистяков, прыгай на подножку – поезд тронулся.
До Читы доползли без приключений. Разве что настроение у всех без исключения было подавленным. Встреча одним мгновением пролетела, а расстройств – на всю оставшуюся жизнь. Одно меня радовало – с батяней примирился. Приеду в часть – сразу напишу.
Тюрин допытывался – что за человек мой сват? И по какому праву он обнял его девушку? Чем Славика успокоить? Врать не хочется, стращать не хочется – всё будет так, как девчонка захочет, а сват лишнего себе не позволит. Сказал и сам себе не поверил…
Злоключения начались в Чите – здесь у нас опять пересадка. Какой-то хмырь, весь в наколках и тельник-майке, привязался – братки, мол, братки. Говорит, дальше едем вместе, и нам надо за него держаться. Летёху советует тряхнуть, а, тряхнувши, выкинуть из вагона.
Берсенёв ему:
– Слышь, убогий, тельник – нижнее бельё, ему более кальсоны подходят.
У хмыря в руке початая бутылка пива. Две девицы непонятного возраста, как собачки, бегают за ним и всё норовят к горлышку приложиться. Мужик их отталкивает, сам отхлёбывает. На ноги девицам глянешь – вроде ничего. На лица – бр-р-р! – хуже атомной войны. Хмырь нам подмигивает:
– Сосок хотите? За фунфырь уступлю.
А потом как даст одной кулачищем. Дама упала, и он носом в стенку – кто-то из наших приложился. Окружили, а у него в руках финка.
– Попишу, моряки, …ля буду, попишу.
Чистяков:
– Отойдите.
Ремень из тренчиков вытянул, на руку мотает, а хмырь нож перед собой и на прорыв пошёл – вырвался на перрон и стрекача задал. Тут наш поезд объявили. Садимся, а билеты наши раскидали нас по всему составу. Я в общем вагоне один оказался. Прошёлся туда, вернулся обратно – нет мест свободных. Я к проводнице.
– Нет, – говорю, – свободных мест.
Она:
– Садись, где найдёшь.
– Не найду – к вам приду.
– Приходи.
Снова бреду под завязку набитым вагоном. Солдат на нижней боковой спит. Бужу.
– Вставай, пехота, приехали.
Полку раскидали на столик и два сиденья. День проехали. На ночь глядя, солдат предлагает
– Давай ляжем валетом.
Мне только ног твоих у носа не хватало! Впрочем, мои тоже не «шипром» пахнут. Легли. Он мои голени обнял, я его. Спим, не спим – пытаемся. Среди ночи он пропал. Я раскинулся на полке и заснул с удовольствием. Вернулся солдат, будит:
– Слышь, моряк, у тебя на бутылку есть?
– Откуда деньги? Из учебки еду – лейтенант командир.
– Ну, тельняшку продай.
– Тебе что приспичило?
– В конце вагона двух тёлок дерут – за бутылку дают. Я был, отметился – сходи и ты, а я посплю.
– Слушай, мне как бы немножко не хочется.
– Да брось?
– Нет, правда, потерплю чуток.
– Ага, совсем чуток – три года.
– Теперь уже меньше.
– Нет, я ради этого дела последнюю рубаху отдам.
Солдат скинул ботинки и обнял мои голени. Лежал, лежал, ворочался, ворочался – потом встал и куда-то пропал. Наверное, пошёл последнюю рубаху проё…. Как бы это выразиться цензурно, и чтоб все поняли?
В Хабаровске опять пересадка с ночёвкою на вокзале. Во вполне приличном гальюне привели мы себя в порядок – умылись, побрились, почистились. Вот погладиться не удалось – а так был бы полный ажур. Пристроились ночевать – строем на баночке (лавка вокзальная), головой на плечо соседу.
Напротив – ожидающие. Дама – яркая блондинка, при ней два военных. Старлей, должно быть, муж, а прапорщик – брат. Её короткая кожаная юбка на баночке совсем потерялась. Всё, что выше колен, бросается в глаза, просто лезет нахально, не даёт окончательно сомкнуть веки и уснуть.
Чуть дальше, женщина в строгом платье, уложив на колени головку ребёнка, просидела всю ночь, чутко реагируя на все движения чада. Лицо типично еврейское, не лишённое, впрочем, привлекательности. Утром от блондинки остались одни ноги – на лицо без содроганья нельзя было глянуть. А юная мамаша, будто не спала, и не было для неё томительной ночи ожидания. Хочу жениться на еврейке.
Иман-1 – так раньше называлась эта узловая станция, а нынче город Дальнереченск. Две створки ворот с адмиралтейскими якорями из жести распахнулись, впуская нас на территорию части, и закрылись. Как символично! Если бы мы прошли через КПП, такого зрительного эффекта не было.
Лейтенант Берсенёв построил нас в шеренгу перед штабом и вошёл. Дождик накрапывал. С козырька перед штабной дверью лил ручьём. Кавторанга сунулся было к нам поближе (мне показалось, даже руку для рукопожатий приготовил), но попал под поток, втянул голову в плечи и вернулся на крыльцо. Из-под козырька представился:
– Начальник политотдела пятнадцатой отдельной бригады сторожевых кораблей и катеров капитан второго ранга Крохалёв Павел Евгеньевич.
Поздравил нас, новобранцев, с прибытием к месту службы. Сейчас посмотрят наши личные дела и быстренько оформят назначение. А он пойдёт и ускорит. И ушёл. Мы стоим под дождём – не сильным, но нудным, достаточным, чтобы считать себя промокшим до нитки. Мичман какой-то остановился и стал разглядывать нас, как зверей в зоопарке – только что палец в рот не сунул. Проходящий мимо матрос так лихо козырнул, что локтем сбил с него фуражку. В три движения он поймал её у самой земли, водрузил на голову и сказал:
– А вы чего здесь мокните? Идёмте в роту.
И привёл нас в зелёный барак – жилое помещение роты берегового обеспечения. Бербаза, проще говоря. Ещё их в глаза называют шакалами. И справедливо в этом я скоро сам убедился. Примчался офицерик в защитном плаще, всех забрал, оставил нас с Лёхой Шлыковым – мы, оказывается, ещё не доехали до своего места службы, нам надо сидеть и ждать команды. Я не расстроился – дело привычное. Лёха засуетился:
– Зё, я пойду на разведку.
Иные сокращают известное «земляк» до «зёма» – Шлык пошёл дальше. Он ещё в пути пытал Берсенева – что да как. Лёха хочет выдвинуться в лидеры, старшины, командиры. Да пусть себе. Мне надо переодеться. В роте дневальный у тумбочки, какой-то старшина с двумя соплями на плече полулежал на кровати, лениво пощипывая гитару. Должно быть, дежурный.
Достал из вещмешка тельник с начёсом, раскинул на кровати перед собой и начал стягивать сырую форму. Зацепил галанку с тельником, тяну через голову – не тянется. В исходное положение тоже не хотят возвращаться. Разделил их кое-как и выбрался из галанки. Думаю, не больше минуты была голова в потёмках одежд, гляжу – нет тельника с начёсом. Лежал передо мной на кровати, а теперь нет. Дневальный у тумбочки, дежурный в том же положении. Кто ноги приделал? До дневального далеко – явно не он. Тогда этот – сопленосец. Смотрю на старшину в упор. А он пронзительно голубыми глазками хлоп-хлоп. Положение наидурацкое – не знаю, что предпринять. И тельника жалко, и обидно – как пацана раздели за одну минуту. Не ожидал совсем, чтобы моряки такими делами занимались. Что же делать? Идти кровати потрошить – куда-то же эта гнида спрятала его. Самого за шкварник взять?
– Слышь, – говорю, – тельник отдай.
Он – сама невинность.
– Какой тельник?
– С начёсом. Он вот здесь лежал, и ты видел, кто ему ноги пристроил, если не сам взял.
– Что? – дежурный шакалов поднимается, медленно-медленно кладёт гитару, ремень поправляет, на котором болтается штык-нож, и ко мне направляется.
Тут Лёха Шлыков врывается:
– Зё, одевайся. Нас баржа у причала ждёт, а ещё надо паёк получить.
Я одеваюсь, подходит голубоглазый дежурный шакалов.
– Что ты сказал? Повтори.
Он был немного повыше, но уже меня в плечах.
– Запомни, старшина, я таких обид не прощаю. И, Бог даст, свидимся ещё.
– Я тебя запомню, – сказал мне дежурный по роте берегового обеспечения.
Суетливость Шлыкова обернулась для нас не лучшим образом. На продовольственном складе откровенно надули – двоим на двое суток выдали булку хлеба, по щепотке чая с сахаром и банку тушенки. Я бы это съел за один присест, а чай выкинул.
Притопали на пирс, по трапу поднялись на самоходную баржу, представились мичману. Сходню тут же подняли, и посудина, приняв концы, отвалила. Идём вниз по Иману, курс на Уссури. Пару-тройку поворотов – и вот она, легендарная река. Навстречу, вздымая белые буруны, несётся «Шмель» – броненосец проекта 1204. Все броняшки опущены, и очень задиристо смотрится отнятая у танка башня с пушкой. Из недр плоскодонного чудовища несётся рык.
– Эй, на барже, принять к берегу.
Мы стопорнули дизель и ткнулись в кустарниковые заросли. На стремнине замер красавец «Шмель», чуть подрабатывая винтами. Весь, как ёжик иголками, утыканный стволами.
По нашему следу примчался «Аист» – привалил к борту. Штабной офицерик, высунувшись в люк рубки, орёт в мегафон:
– Куда вас черти понесли без документов?!
Ах, Лёха, Лёха – как с тобою плохо. Суета, в народе говорят, до добра не доводит. Я вот тельника лишился. Хотя, при чём здесь Шлык? Сам виноват – с шакалами надо ухо держать востро. Но как обидно.
Лёха принял документы и командование надо мной.
– Так, зе, давай перекусим.
Баржа вышла в Уссури и взяла курс к её истоку. Она плавно скользила в текучей воде, раскручивая спираль берегов, а мы на баке разложили наши припасы и размышляли – чем же вскрыть банку тушенку. Я признал Лёхина лидерство:
– Ты начальник – сходи, попроси нож.
Шлык отломил корку у булки:
– Попробуй пряжкой.
Я снял ремень, взял банку, крутил, крутил, скоблил, скоблил, потом признался – не умею. Лёха хлеб пощипывает и меня поучает:
– Вот так поверни, вот эдак попробуй.
Подошёл командир баржи мичман Гранин с охотничьим ружьём:
– Это все ваши припасы? Не густо. Хлеб дожуйте, а остальное сдайте на камбуз. Ужин будет на берегу.
Лёха сгрёб все припасы и поплёлся в рубку. А во мне загорелся охотничий азарт. Гранин присел на кнехт, а я на палубу за его спиной. Первым же выстрелом мичман сбил взлетающую с воды утку. Баржа тут же легла в дрейф.
– Прыгнешь? – Гранин повернулся ко мне.
– За своей бы – да.
– Логично.
Мичман быстро разделся и прыгнул за борт. Вынырнул с тигриным рыком. Я думаю, вода в апреле, что в Уссури, что у нас на Урале не намного теплее льда. В несколько взмахов настиг сносимую течением утку. Потряс над головой, и увидел подлетающую стаю.
– Стреляй, чего же ты!
Я схватил ружьё, нажал оба курка – один ствол бабахнул. Сбитая мною утка падала не камнем, и, упав, ещё продолжала движение – правда по кругу, и не поднимая головы.
– В Китай ушла, – огорчился мичман.
Однако поплыл за ней.
– Осторожнее, командир, – крикнул рулевой из рубки.
– Давай за мной, – махнул Гранин рукой.
Когда он вскарабкался на борт, до береговой черты оставалось пару метров. А за ними – Китай. Безлюдный, заросший камышом и кустарником – где же они своё миллиардное население прячут?
Про камбуз это Гранин лихо сказал. К закатному времени подошли к пограничной заставе и ткнулись в берег. Моряки с баржи вытащили примус, поставили закопченное ведро и начали заправлять варево. Нам со Шлыковым досталась ещё более ответственная работа – разобраться с трофеями. Ну, мне-то это дело привычное – отец охотник. А Лёха поиздевался над убитой уткой. Я уже палил паяльной лампой ощипанную, а Шлыков:
– Может, с неё шкуру спустить – и палить не надо?
– Учись, салага, – посоветовал мичман.
Подошли моряки с вельбота, который стоял неподалёку у мостика.
– Пригласите, братцы, пищи нормальной поесть.
Вытрясли в ведро пару банок тушенки и каких-то круп из мешочков.
Нормальная пища пахла дымом, была пересолёна и переперчёна, но удивительно вкусна.
– Молодые? – спросил старшина вельбота Виктор Коротков. – Земляки есть?
– Из Челябинска призывались, – ответил за двоих, так как Лёха, поужинав, продолжил издевательства над покойной птицей.
– Опа-на! – взликовал Коротков. – Земляки. Я из Магнитки.
– Витёк, спой, – попросили баржисты.
Старшине вельбота принесли гитару. Коротков тронул струны и запел тихо-тихо, грустно-грустно. Эту песню он сам сочинил, и Вы наверняка её не слышали. Мотив я передать не смогу, но слова…. вот они:
Грустит моряк, не спит моряк, и сны ему не снятся
Письмо давно ушло в село – ответа не дождаться
Из-за тебя покой, и сон моряк теряет – слышишь
Он сел тебе письмо писать, а ты ему не пишешь.
Приедет он в родной район под осень на попутке
Пройдёт твой дом и не зайдёт, друзей услышав шутки.
И снова ты по вечерам гитару его слышишь
Он снова сел тебе писать, а ты ему не пишешь.
Хорошо грустить у костра – сиё мероприятие с детства обожаю. Куда-то улетают все беды и невзгоды, остаётся одна светлая и святая грусть, которая так роднит русские души.
– Пойдём, земляк, ко мне ночевать, – обнял меня за плечи Коротков. – На этой барракуде всё пропахло маслом.
Мы справили все дела и улеглись втроём на двух матрасах на дне вельбота. На берегу Лёха пыхтел над паяльной лампой, наконец-то лишив утку перьев.
Вельбот – это дровяное создание с небольшим двухцилиндровым дизелем и реверсом для смены направления вращения винта. Вал от дизеля к редуктору ещё чем-то прикрыт, а после него открыто вращается до опорного подшипника, через который уходит под нище и крутит винт. Техника прошлого века – чуть зазеваешься и намотаешь штанину на валолинию. Ни кают, ни рубки. Носовая часть прикрыта брезентовым пологом. Под ним мы и ночевали беспечно. Почему беспечно? Так ведь, до полувраждебного Китая едва ли полсотни метров, а у нас ни часовых, ни вахтенных.
Проснулись с восходом солнца. Оно прижало туман к воде, позолотив верхушки деревьев. А потом, выпрыгнув из-за кромки леса, набросилось на дрожащее марево и порвало в клочья. Обессиленный, туман лёг на воду бесследно и росой на вельбот.
Что ни говори, а ночи в апреле ещё зябкие. Меня ребята в серёдку положили – мне хорошо, тепло, а они поворочались – то один бок об меня согревают, то другой. Выбрались из-под полога, тут и увидели китайцев – с удочками на противоположном берегу. Их было трое – старик с бородкой клинышком и в такой же шляпе, мужик средних лет (мордоворот китайского масштаба) и юнец тощеногий пятнадцати лет.
– Смотри, зёма, фокус-покус, – Коротков свистнул по-разбойничьи, воздел к небу кулаки и потряс ими.
Действия, прямо скажем, двусмысленные. При большом желании это можно было растолковать и так – привет, камрады! По крайней мере, старик так и понял – он закивал головой часто-часто, макая бородёнку между колен. В избытке братских чувств помахал нам ладошкой. Тот, чья морда была шире узких плеч, только головой дёрнул – будто комара с шеи прогнал. А малец подпрыгнул, заплясал, заверещал – то зад к нам повернёт и похлопает, то рожи кажет, то язык. Мог бы и не напрягаться, выкидыш культурной революции.
Когда выводили баржу на стремнину, Гранин такой вираж заложил, что побежавшая волна смыла китайцев с их полого берега.
Вошли в Сунгачу. Берега стали ещё ближе, повороты круче. Гранин сам встал за штурвал и разогнал посудину до предела возможного – иначе не впишешься. По нашему берегу, то скрываясь в кустах, то вновь появляясь на чистинах, бежал оленёнок с черными пятнами на желтом крупе. Долго бежал, будто соревнуясь. Я зашёл к Гранину в ходовую рубку.
– Это кабарга, – пояснил мичман. – Ох, и любознательные же создания.
Об охоте и не помышляет командир, знай себе, накручивает – то влево вираж, то вправо. От усердия испарина на лбу, сбился в локон промокший чуб.