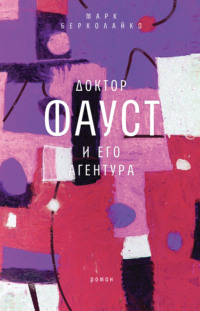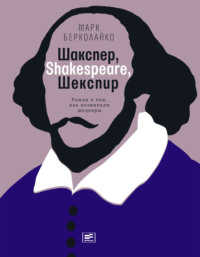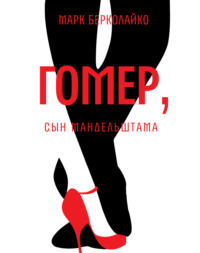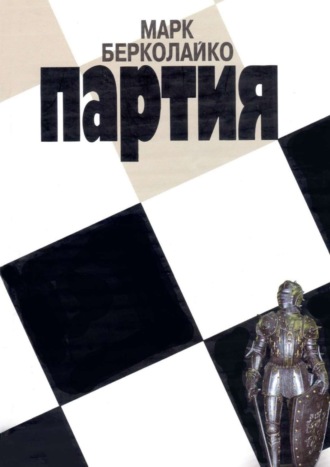
Полная версия
Партия
Еще и еще кредиты, закупки техники, семян, горючего, средств защиты растений, проект разрастался, и одной только зарплаты требовалось под десять миллионов в месяц.
Черви такой денежный поток создавать не успевали, финансовые прорехи множились скорее, чем штопались, но уже на десятках тысяч гектаров рос элитный пивной ячмень и подсолнечник, и еще десятки тысяч готовились под озимые. Взлелеянная земля, пропитанная удобрениями, должна была дать славный урожай. Всего только две успешные уборочные, всего только год – и появилась бы вполне осязаемая прибыль.
В общем, как комментировал замученный наскоками правоохранителей, заметно помрачневший сангвиник Абрамыч: «Мы их просим, дайте нам время, а они отвечают: «Время дать не можем, но срок дадим – уж будьте уверены!»
И вот теперь Бруткевич мотался по области, проверяя, все ли готово к уборке. Лето складывалось паскудно дождливым, на севере области были убраны еще не все озимые, техники традиционно не хватало. Георгий раньше и не подозревал в себе такой твердости: его просили, ему угрожали, предлагали любые деньги, но ни один новехонький комбайн «Недогонежпроекта» ни на одно «чужое» поле не вышел. Все было сосредоточено в южных районах, все жило одной надеждой: ячмень, не менее трех тонн с гектара, двигаться с юга на север, сроки минимальные (двадцать дней) в любое окно между дождями. Плевать на влажность – на элеваторах высушат. Дорого? – пусть. Но в конце августа должно быть не менее сорока тысяч тонн – ста двадцати миллионов рублей. Двадцатью заткнуть самые опасные пробоины, сотней хоть чуть-чуть ослабить кредитную удавку. Потом подоспеет подсолнечник – и тогда… Ах, вот тогда можно будет хоть на секундочку увидеть «небо в алмазах».
…Пятница была на исходе, машина мчалась в Недогонеж; Георгий поддался на уговоры спутников, Абрамыча и Андрея Сергеевича, главного агронома проекта, и решил провести два дня в городе; а на рассвете в понедельник – на самые «юга» области, где уборка начнется в воскресенье.
На самом-то деле Георгий и не сильно сопротивлялся уговорам. По Машке соскучился невыносимо, да и ощущать в воскресенье внезапные замирания сердца: «Как там уборка?», и видеть, как краешек этой тревоги тут же затеняет лица семейства (черт возьми, уже семейства!) – была в этом какая-то садо-мазо-сладость.
Хотя почему «садо-мазо»? Просто естественное стремление мужчины побеждать, зная, что в тылу надеются, тревожатся и любят.
Навстречу машине спешили облака, уже излившие влагу на севере. Поигрывая отблесками заката, они старались выглядеть дружелюбными, но черные пятна, пометившие их затейливую кучеватость, не предвещали ничего хорошего.
Настроение от этого портилось, но у Бруткевича сызмальства был безотказный способ обрести равновесие: поспать или хотя бы подремать. И лишь только навалилась дремота, недобрые облака сменились красками Того Самого Рассвета, только Машка не плакала, а убаюкивала и шептала, что все обойдется… Под шорох шин, под мурлыканье двигателя, под Машкин шепот разноцветно-слоистый торт рассвета выглядел особенно празднично и дремалось особенно сладко.
Но все испортило внезапно загудевшее возле уха ворчание водителя Ивана.
Хоть фамилия у него была грозно-казацкая, Есаулов, производил он впечатление не вояки, а попрошайки. Даже и сутуловатость его была трусоватой, словно ему дали чуть передохнуть между порциями ударов по шишковатой голове и костлявым плечам. Однако ж при этом он умудрялся взглядывать на окружающих людишек с таким насмешливым презрением, будто еще вчера владел родовыми замками с баронским гербом на фронтонах.
– Опять вертаемся, – забубнил он, – с пустым багажником. Мяса нигде не взяли; Викулин две головы сыру хотел положить, так вы не велели. От предприятия что, убудет, если парного мяса дадут? …забили бы теленка… Животновод наш главный всегда вертается с полным багажником. Женька, его водитель, от мяса уже распух. И кому вы свою честность доказываете?
– Заткнись! – посоветовал Бруткевич, с трудом удерживая остатки дремоты.
– Заткнусь, – горестно согласился Есаулов. – Скоро мочи не будет говорить. И ноги болят. Раньше, когда начальника рыбводхоза возил, спрашивали: «Вань, тебе какой рыбки положить?»
– Жалко, спился мужик, – закончил Абрамыч не раз слышанное повествование, – и помер.
– Спился, – согласился Иван, гордясь величием начальника рыбводхоза, как собственным баронским гербом, – помер. Но вертались всегда с полным…
– Заткнись! – рявкнул Бруткевич, окончательно вернувшись из мира, где была Машка, в мир, где есть Есаулов. Попищал кнопками мобильника и обратился к главному животноводу «Недогонежпроекта»:
– Привет, Виктор Алексеевич! Напомните, пожалуйста, первый основной принцип бизнеса… Правильно, «Не бойся больших расходов, бойся маленьких доходов». А второй?.. Подзабыли? С удовольствием напомню. «Уж если воровать, то с прибыли, а не убытков». Где же это вы у нас большую прибыль обнаружили?.. Что я имею в виду? Да вот, дошли слухи, что из поездок с парной телятиной возвращаетесь… Только один раз? А что ж не поделились?.. Вы во второй раз половину отнесите в багажник к Ивану, и сразу ко мне в кабинет с заявлением об уходе. Договорились?.. Удачи!
– Георгий Георгиевич! – встрепенулся главный агроном. – Вон наше поле под озимые готовится. А за ним двести пятьдесят га ячменя. Посмотрим?
– Конечно! Стоп, Иван! И если еще раз услышу про заполнение багажника – в пинки погоню. Сразу и больно.
– В пинки… – ворчал Есаулов, пока пассажиры, кряхтя, разминали онемевшие ноги. – Геофизики… ну и физичили бы себе дальше, из ума сшитые. «Воровать с прибыли», – передразнил он Бруткевича, уже ушедшего от машины метров на пять. – С прибыли большое начальство уворует. А мы ее пока дождемся, с голоду помрем!
И поплелся за Бруткевичем, приученный покойным рыбводхозовцем держать дистанцию, но следовать по пятам.
По полю быстро, но вальяжно перемещался трактор, за которым тянулся шлейф из необычно широкой бороны и нескольких культиваторов. И у Георгия потеплело на сердце, когда он вспомнил, что трактор, белорусский аналог «Кировца», не уступающий тому в мощи и маневренности, обошелся гораздо дешевле; что борона современнейшая, французская, тоже выторгована с приличной скидкой; что обращается она с черноземом бережно, как будто врачуя его лазером, а не кромсая, как традиционный плуг, мясницким ножом.
– Что, Андрей Сергеевич, справляется наша техника? – спросил он у агронома, успевшего дойти до середины поля и вернуться.
– Отлично. Георгий Георгиевич, слов нет! И трактор хорош, а уж борона – просто чудо. Следующей весной еще бы штук двадцать таких, да еще немецких сеялок – горя знать не будем. Купим, Георгий Георгиевич?
– А купилки где взять? – вздохнул Бруткевич, однако в глубине души знал, что на уши встанет, но купит. И пусть визжат, что он, руководитель государственного предприятия, вбухивает деньги в импортную технику, главное, что земля воскресает, и что он, Бруткевич, в этом участвует.
А вот и ячмень. И хоть ни черта бывший геофизик, боксер, политтехнолог, «бомбила», несостоявшийся певец, в зерновых не смыслил, но генетической памятью русского, привыкшего умиляться всему, что, вопреки хреновой погоде и вечному бардаку, взросло и окрепло, Георгий чувствовал, как он хорош, этот крепкий ячмень. Покорно склонивший обрамленный венчиком, полный зерна колос, но при этом держащий стебель царственно прямо – он словно гордился, что да, на Бога надеялся, но и сам не оплошал.
Затрубил мобильник. Машка! Умница Машка, вещунья Машка – как чудесно угадала, в какую минуту позвонить!
– Машка, – зашептал Георгий, – ты, конечно, не помнишь, соплячка совсем, была такая картина, «Утро нашей Родины». Там Сталин в парадном мундире любуется полем пшеницы. А у нас тут ячмень… и какой ячмень! Той пшенице до него, как Шарон Стоун – до тебя. А вместо генералиссимуса – я. Только бы вовремя убрать. Молись, чтоб не было дождей.
– Уже молюсь, – ответила она, и голос был невеселый. – Тут, масса, вот какое дело. Толоконин в отпуске, и оппозиция опять замахала ручонками. Добилась парламентских слушаний по поводу «Недогонежпроекта» и лично вас.
Глава 4
Миттельшпиль. 1492 год. Март
О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся.
Ф. Достоевский
Завтра для нас может кончиться вся эта простая, обыденная жизнь. Завтра — наш момент истины.
Томас де Торквемада
Ладья Яхве встала на сЗ – и тогда от отчаяния мой слон перешел на d2 и напал на нее. А уйти она могла только на с6, после чего конь черных переместился бы на е4, разменял моего слона или просто отогнал его, а затем ладья спокойно возвратилась бы обратно полноправной хозяйкой всей третьей горизонтали.
Но тут я сказал Яхве, что хочу запретить увести ладью из-под удара.
– Браво, Повелитель мух! – засмеялся Он. – Мелкие партизанские пакости идеально соответствуют твоим повадкам: отсидеться, отмолчаться, а потом испортить все запретом, ультиматумом или угрозой. Надеюсь хотя бы, что если твой избранник тебя подведет, ты не станешь унижать меня бессмысленным сопротивлением – и сдашь партию.
– Сдам, – ответил я. – Непременно сдам.
In nomine Domini nostri Ihesus Christi!1
Лязг доспехов, отмечающий каждый шаг сопровождающих меня пехотинцев, заставляет чеканить по слогам: «In-no-mi-ne-Do-…» Но цокот копыт лошадей конной стражи не так размерен. Теплая свежесть мартовского ветра будоражит игривых жеребцов, они сбивают слишком медленную рысь – и тогда мое мысленное выпеваиие: «mi-ni-nos-tri…» прерывается «Ihesus-christi!», коротким и резким, как вскрик распятого Спасителя.
Потом короткая пауза и снова: «In-no-mi-…» в такт тяжелой поступи пеших. Так иду я, повторяя, что и нынешний мой путь, и вся моя жизнь – во имя Иисуса Кротчайшего.
Так иду я, Томас де Торквемада, лучший католик Испании,
пока еще разделенной на Кастилию, Арагон, Леон, Каталонию и прочая,
но уже навеки скрепленной объятием Святейшей инквизиции.
Так иду я, Томас де Торквемада, верный помощник Святого Римского Престола;
верный слуга супругов-королей: Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской.
Одинокий в своих исканиях и муках, как сам Иисус, когда Его предали все: и народ иудейский, и ученики-иудеи,
И Бог иудейский, который поспешил когда-то остановить руку Авраама, занесшего жертвенный нож над сыном своим, Исааком.
Чужого сына пожалел, а собственного – нет.
Впрочем, Кротчайший сполна с Ним расплатился, когда безропотно взошел на Голгофу и оттого стал людям мил. И хотя миллионы уст бормочут ежедневно: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», сердца преданы только Сыну.
И земной Мириам, Марии, зачавшей своего первенца, Иисуса, непорочно, но уже братьев Его зачинавшей попросту, без затей, под хриплое дыхание старого плотника и под собственные судорожные стоны.
И я, будто бы наяву, слышу эти звуки – то ли они навеяны теплой свежестью мартовского ветерка, шныряющего по улицам беспутной Севильи,
то ли воспоминания о собственном блуде заменяют в моих мыслях светлый лик Мадонны на мерзкую рожу Бьянки,
то ли кварта пульсирующей в моих жилах жидовской крови делает свою гнусную работу, испоганивая все, что есть святого в душе истинного христианина.
Но все-таки я – иду!
Нужно еще раз, бесстрастно, подсчитать прибыль и убытки, и тут кварта крови еврейских торгашей должна помочь.
Только бы не заболело колено. Нельзя об этом вспоминать. Как вспомнишь, как подумаешь, оно сразу заболит. Лучше радоваться тому, что целые сутки я ничего не пил и не ел. Теперь дойду до королевского дворца – и ни разу не захочу по малой нужде. Ведь столь торжественный приход Великого инквизитора: пешком, в простом монашеском одеянии, в сопровождении усиленной конной и пешей охраны, превратился бы в глумление над инквизицией, задери я по пути рясу или заспеши в отхожее место Алькасара.
А так я войду в тронный зал как грозное предостережение, и Фердинанд, этот злобный переросток, постаревший раньше, чем возмужал, – испугается. Он испугается – и евреи будут изгнаны из Испании. Удерут, бросив богатые дома и синагоги. А на границе уже все готово: их допросят. Добротно, как умеют допрашивать мои люди. И зловредный народ дрогнет. И выложит золото из поясов, надетых на нечистые тела пронырливых самцов. И вытрясет драгоценные камушки из тугих кошелей, подшитых изнутри к юбкам плодовитых самок.
Радуйся, Господь иудейский, как же легко после этого будет скитаться народу Твоему! Много легче, чем после фараонова рабства. И десятки тысяч золотых флоринов потекут в королевскую казну под благодарственные молитвы добрых католиков. А потом половина – тайно, под торопливый шепот моих аудиторов, под захлебывающийся шепот пересчета – в доход инквизиции… Если это не прибыль, то что же? Если это не шаг к осуществлению Великого Плана де Торквемады, то что же? Конечно, денег нужно стократ больше, однако и этот шаг хорош, тем паче, что он обещает много следующих шагов, столь же полезных.
Кажется, колено… Нет, нет, не думать об этом! Радоваться. Радоваться тому, что мне совсем не хочется по малой нужде, что Фердинанд испугается. Он и сейчас трусит, колеблется, ведь ему уже доложили, что я иду.
И я дойду! И верю, что ноги мои, ноги гончего пса Иисусова, будут выносливы еще тридцать лет, а голова останется ясной. И я, Томас де Торквемада, увижу воплощение своего Великого Плана. А поганый народ, порча католической Испании, испортивший даже мою кровь ретивейшего слуги Христова, исчезнет, как исчезают в севильских канавах нечистоты, подхваченные вздувшимся весенним Гвадалквивиром. И ничей голос не осквернит более испанскую землю возгласом: «Барух ата Адонай!«2
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.