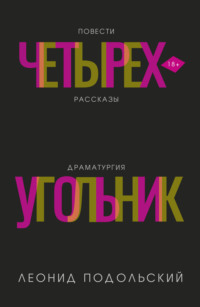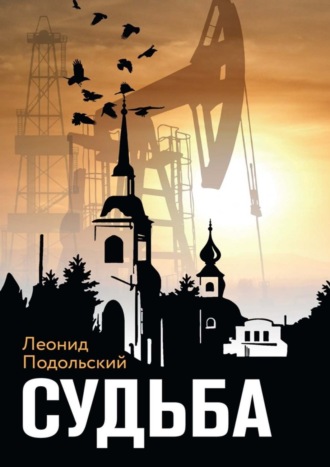
Полная версия
Судьба. Сборник прозы
Сценарии Белкина (готовили эти сценарии сотрудники Центра, или Фабрики, как он любил говорить, сам же Белкин в основном только добавлял этим сценариям креатива) шли нарасхват, хотя и не были слишком реалистичными. Сценарии с самого начала подразделялись на две категории – условно реалистические, где составители, чаще безуспешно, пытались предугадать реальность, и творческие (по выражению самого Белкина), где допускались разгул фантазии и гротеска. Смысл этих «творческих», иногда даже фантастических сценариев состоял в том, что в процессе их написания и прочтения – мозгового штурма – удавалось придумать-увидеть-предложить множество нетривиальных проектов и решений.
Коллеги-политологи Белкина не любили. В кулуарах его обвиняли в интриганстве и доносительстве. Так, в своё время, он первым составил полузакрытый доклад о «ЮКОСе». Впрочем, едва ли неприятности Ходорковского с Лебедевым стали следствием этого доклада, разве что бесталанные прокуроры кое-что позаимствовали у политолога-беллетриста. Говорили также, что незадолго до событий в Южной Осетии профессор Белкин подготовил очень объёмный сценарий и что якобы события в этой мятежной республике разворачивались до мелочей в соответствии с планом Белкина. Однако, возможно, это были только разговоры недоброжелателей. Сценарий Белкина никто из говоривших лично не видел, не было даже доказано, что этот компендиум существовал в природе. Единственное, что было известно точно, в ЦСИ незадолго до юго-осетинских событий работали несколько отставных генералов и полковников; с другими сотрудниками Центра они общались только через Белкина и исчезли за несколько дней до начала войны. Словом, пища для домыслов была, конечно, но довольно постная. Некоторые даже предполагали, что слухи об этом сценарии по своим каналам, через купленных журналистов, распространил сам Белкин – он был непревзойдённый мастер саморекламы. Говорили также, опять же без строгих доказательств, что несколько лет назад профессор Белкин своим сценарием сильно напугал высоких лиц в администрации несуществующим призраком оранжевых. Якобы предположил, что толпы исчезнувших к тому времени, как некогда гунны, демократов могут обложить Кремль. Но всё было почти тихо. Сначала думали, что пророк ошибся. Но нет, оказалось, что Белкин не ошибается, окольным путём он якобы предостерегал от монетизации льгот. Словом, настоящая пифия.
В отличие от многих других политологов Белкин был известен широким массам громко разрекламированными планами национализации, легализации секс- услуг, коммерциализации здравоохранения и другими весьма спорными идеями. Поговаривали, что с помощью Белкина очень влиятельные люди, оставаясь инкогнито, запускали пробные шары, часто с первого взгляда нелепые; потом идеи обкатывались в прессе, на телевидении, к ним постепенно привыкали, со временем эти прожекты как бы становились данностью. Роль сливного бачка политолог вообще играл с удовольствием, как язвили остряки из околополитической тусовки, даже с оргазмом. Он часто писал статьи, любил появляться на телевидении и клясться мамой в своей честности – человек, бесспорно, яркий и умный, однако бессовестный и самовлюблённый. К тому же профессор Белкин периодически страдал довольно редкой формой косноязычия. Он говорил красиво и убедительно, но настолько двусмысленно, что вокруг него постоянно возникали скандалы и суды – политолог якобы регулярно бывал не так понят. Впрочем, нередко случалось, что Белкина действительно неправильно понимали.
Так вот, этот скандальный и одновременно влиятельный околополитический деятель стоял за кафедрой в почтенном собрании и произносил доклад о российской демократии.
– Нет реальных сил, выступающих против формирования в России высокоразвитой демократии, – Станислав Евгеньевич любил говорить парадоксами. – Но… – профессор сделал картинную паузу, – для одних демократия всего лишь продукт, как, например, чёрная икра, шампанское или устрицы. Понятно, не самой первой необходимости. Это для народа. А для верхов – процесс. Как ещё недавно строительство коммунизма. Вечное стремление к линии горизонта. В лучшем случае – долгострой. Это удобно. Не мешает здесь и сейчас, зато обязательно будет для будущих поколений. А вот и не будет, – усмехнулся политолог. – Человек в нашем изменяющемся мире самое консервативное звено. Менталитет меняется десятилетиями. Нельзя уродливой старухе проснуться очаровательной девушкой. Либо мы упраздним председателя облизбиркома Тулинова, либо он окончательно упразднит демократию. Третьего не дано. Я понимаю, не хочется… Я изложил вам, коллеги, один из возможных сценариев. Он значительно актуальнее, чем вы думаете. – Это был очень тонкий намёк на тесные связи Белкина в администрации и на тамошний кругооборот мысли. – Губернатор Садальский – не миф. С Эдуардом и Сэмом Лейкиным я отлично знаком лично. На роль Максима Плотникова – целая очередь…
Однако к чему он ведёт? Демократический поворот? Что-то случилось в тандеме? – шёпотом спросил несмышлёныш-практикант у известного политолога Семечкина.
– Скорее, иезуитский совет. Начать процесс. Вечный, бессмысленный как у Кафки. Может быть хитроумно лоббирует геев и ночных бабочек. Они-то режиму не опасны. Или скрытый донос на конкурирующую фирму политтехнологов.
– Вы копаете очень глубоко, – не то с восхищением, не то со скрытым сарказмом заметил практикант.
Семечкин пожал плечами. Он и сам был недоволен своими словами. Откуда такая желчь? Опять разучились говорить правду? Или это в нём говорит старое недоброжелательство к Белкину? Тот, в отличие от фрондёра Семечкина, всегда считался клевретом администрации. Однако на сей раз Белкин, странное дело, хоть и рисовался, но говорил правду. Какая бы у этой правды ни была подоплёка. Вот это и было удивительно Семечкину. Где здесь двойное дно? Зачем, с какой целью этот переменчивый человек без принципов, всадник апокалипсиса, как иногда величали его коллеги за апокалипсические сценарии, начал изображать из себя лилейного демократа? Получил приглашение в Гарвард или в Йель и решил на прощание расплеваться? Или действительно крупно рассорился с Алхимиком: говорили, что Белкин претендовал на видное место в администрации, а зам. главы побоялся заиметь конкурента.
– Все эти речи, вся наша политика – буря в стакане воды, – неожиданно зло сказал Семечкин несмышлёнышу. – Истина в том, что наш русский социализм был плох, даже отвратителен, но олигархический капитализм ничуть не лучше. Система опять работает против народа. Не бывает демократии без нормального среднего класса. У нас опять пузырь. Раньше был пузырь супергосударства. Теперь – олигархов и бюрократов. А пузыри, как известно, лопаются.
– Как эхинококк, – уточнил практикант. – У меня отец хирург. Ленин-то был прав насчёт сращивания государства и капитала. В России, как всегда, самый тяжёлый случай.
Белкин между тем продолжал:
– Демократию, как говорил Максим Плотников, надо растить как экзотическое дерево. Во многих странах она давно не экзотика, а рабочий механизм по улучшению жизни общества. Выборы – не самоцель. Самоуправление – тоже. И свобода СМИ. И общественный контроль за чиновниками. Беда России – власть; ещё большая беда – оппозиция. Свобода у нас отчего-то не работает. Может, её слишком мало? Или пала в неравной борьбе с бюрократией?
…Железный занавес упал… и остался. Железный занавес – не пограничник с автоматом, а язык и культура. Мы все ещё бродим во тьме тысячелетнего раскола…
…Модернизация, – вдруг заулыбался Белкин, – ну да, модернизация… нынешняя система, – он слегка заикнулся, но тут же, сделав над собой усилие, сказал решительно, – условно говоря, путинизм – это модернизированный брежневизм…
…Шоу-демократия, шоу-капитализм, шоу-преемничество, – продолжал изгаляться Белкин, – впрочем, прогресс налицо, в девяностые годы был шоу-президент, а сейчас шоу – на среднемировом уровне…
Белкин закончил доклад, слегка поклонился и сошёл с кафедры. Коллеги-политологи переглянулись. Это был вызов. Обиженный чем-то Белкин, словно средневековый рыцарь, бросил перчатку Алхимику. Поднимет ли тот её? Состоится ли поединок?
Зам. главы администрации – именно в него пускал свои критические стрелы политолог в сценарии – ничем не выдал свои истинные чувства. Сидя в президиуме, он продолжал улыбаться, всем видом показывая, что даже польщён эскападами обидчивого профессора. Политологи, мол, как малые дети. Спорят, обижаются, бывает, дерзят, когда что-то не по ним, меняют взгляды по конъюнктуре или настроению, а караван идёт. Очень интересная наука политология, – Алхимик сам грыз её гранит уже в зрелом возрасте, – только истина всегда относительна. «Вспомнил про Россию, апокалиптолог… – зам. главы улыбнулся. – На наш век хватит».
– Вы, Станислав Евгеньевич – настоящий Гоголь. Смеётесь над нашими неокрепшими институтами, – придворный Макиавелли продолжал улыбаться, – смеяться не запрещено, особенно в узком дружеском собрании, где все – свои. Мы все, когда можно, либералы, все – демократы. Пусть у нас и авторитарная – помните Миграняна, – но всё-таки демократия. Однако всякий сарказм имеет свою причину. Как правило, субъективную. Ваш не от того ли, что как сами же изящно выразились, оказались в полуоппозиции. Очень по-человечески понятно. Вы ведь по природе Соловей, а не Гриша Добросклонов.
И добавил шутливо, почти поэтически: – Много лет бледные кони апокалипсиса якобы бродят по нашей земле. Вы один из немногих, кто их видит во тьме. Но это всего лишь мираж. На самом деле мы поднимаемся с коленей.
В зале раздались смешки. Многие, согласно улыбаясь, захлопали в ладоши. Но смех оборвался. Странная парочка, неотличимо похожая на Соловья и губернатора Садальского, под руку направлялась к трибуне.
2010, лето-осеньВоспоминание
(рассказ)
Это было давно, в другой жизни, в маленьком среднеазиатском городке – с белыми домами, пыльными деревьями, бесконечными полями хлопка, окружавшими город со всех сторон…
Летом городок плавился от солнца, стонал, беспокойно ворочался от духоты ночами. Чтобы уснуть, поливали водой полы, а чаще устраивались во дворах: даже в больших домах, двух- и трёхэтажных, чуть не каждый строил себе во дворе сарайчик, и ночные сны протекали при серебряном лунном свете под тонкое, как звон монист, журчание арыков. В особенно жаркие дни город вымирал. Все, кто мог, прятались по домам, уезжали в горы – невдалеке начинались отроги Тянь-Шаня или целыми днями пропадали на Зелёном мосту у жёлтого, мутного сая. Зато улицы, особенно в Старом городе, с глинобитными домиками без окон – и высокими, выше человеческого роста, дувалами становились совершенно пустыми. Лишь изредка по пыльным избитым мостовым медленно проходили ишаки, запряжённые в двухколёсные арбы с возницами в тюбетейках и стёганых халатах.
И только базары и чайханы, расположившиеся в тени чинар, выглядели маленькими оазисами в раскалённом мареве.
В такие дни Старый город, этот последний раскалённый островок Востока, напоминал фантастический лунный пейзаж, испещрённый кратерами узеньких улочек. Посередине островка возвышалась громада бывшей мечети. В мечети давно жили люди, с минаретов в любую погоду свисали простыни и детское бельё, придавая ей вид дешёвой киношной декорации.
К вечеру, когда жара слегка спадала, город оживал, на улицах появлялись люди. Старый город оглашался детским многоголосьем, из парков и от автостанции тянуло ароматными дымками шашлыков, зазывно покрикивали торговцы чебуреками и восточными сладостями; вспыхивали огни, стайки подростков, лузгая семечки, собирались у кинотеатров, в парке начинало крутиться колесо обозрения, откуда как на ладони, словно сошедший с картин Сарьяна, был виден почти весь город, этот экзотический, многоязычный, грязноватый симбиоз России и Востока.
Но оживление обычно бывало недолгим: ночи на юге наступают рано, и город, уставший от дневного зноя, едва расправив лёгкие, торопился отойти к короткому освежающему сну.
К сентябрю ртутный столбик снижался градусам к тридцати. Начиналась пора свадеб, по утрам и вечерам протяжно дудели карнаи, пышно праздновали тои, базары ломились от изобилия – бесконечные ряды дынь, арбузов, гранатов и винограда, здесь же горы резаной моркови, лука, риса для плова, огромные тыквы, варятся лагман и манты, девчонки в тюбетейках со множеством косичек продают только что выпеченные домашние лепёшки. Кажется, все только продают и почти никто не покупает.
Открывались и ковровые ярмарки, заполнявшие целые кварталы. Вместе с коврами торговали всякой всячиной. Особенно выделялись ряды с тюбетейками, ножами с инкрустированными ручками и цветистыми восточными шелками. Люди, казалось, спешили насладиться короткой передышкой между летним зноем и хлопковой страдой, когда город снова станет почти необитаемым.
Обычно в начале сентября на месяц-полтора в городок приезжал цирк. Он раскидывал шатёр в единственном парке, и сразу вокруг начиналось столпотворение: приезжали целыми семьями из близлежащих кишлаков, приходили торговцы после ярмарок и базаров, валом валили школьники, горожане, привозили на автобусах ребят из соседних городков, – цирк был единственным доступным зрелищем, если не считать футбол.
Мы в школе узнавали о прибытии цирка раньше всех. Ещё за несколько дней до афиш в нашем классе появлялись два брата-близнеца Петя и Жора, кочевавшие с родителями вместе с цирком. Братья обычно держались особняком, чуть ли не каждый день сбегали с уроков и настолько ничего не смыслили в математике и физике, что наша учительница Евгения Петровна вскоре начинала хвататься за сердце и пить валокордин. Но зато на переменах, а иной раз и на уроках Жора с Петей демонстрировали удивительные фокусы: выплёвывали из пустого рта шарики, вытаскивали носовые платки из ушей, втирали чужие монеты в рукава, доставали неизвестно откуда у доски шпаргалки или с помощью зеркалец списывали контрольные. Впрочем, фокус со списыванием удавался им не вполне: больше троек они никогда не получали.
В десятом классе вместе с Петей и Жорой появилась и Таня. Её родители были известными воздушными акробатами, и Таня уже несколько лет выступала с ними в совместном аттракционе. Меня Таня поразила с первого взгляда. У неё была прелестная фигура, изящная и гибкая, как у змейки, божественная походка, – когда она шла, все мужчины, забыв о собственных жёнах, не отрываясь смотрели ей вслед, и даже женщины восхищались и охали, – тёмные густые волосы, белая кожа, но самое главное – глаза. Глаза были большие, с лёгкой раскосинкой, необыкновенного зеленоватого оттенка, ласковые, и вместе с тем печальные. И ещё, помню, у Тани были необычайно густые и длинные ресницы. Словом, я влюбился с первого взгляда той необыкновенно чистой и робкой юношеской любовью, которая потом очень редко повторяется и в которой я боялся признаться даже самому себе. На взаимность я не рассчитывал. Я это слишком хорошо понимал. Так что даже не любовь у меня была, а лишь мечта. Прекрасная, чистая, несбыточная мечта. Ведь, в самом деле, не мог же я, обыкновенный стихоплёт, высокий и нескладный, висевший на кольцах как мешок и так и не научившийся перепрыгивать через коня, всерьёз мечтать о ней, бесстрашной, грациозной и блистающей.
Мысленно я все время разговаривал с Таней. Воображал, как мы идём рядом, держась за руки, и говорим о самом сокровенном… Или мечтаем вместе о будущем… Никогда ещё я не разговаривал так, как с Таней…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Мессалина – первая жена римского императора Клавдия, прославившаяся развратностью, была казнена по настоянию Агриппины, племянницы Клавдия, ставшей его второй женой. Агриппина – мать императора Нерона, известная тем, что отравила императора Клавдия, а позднее сама была отравлена по приказу Нерона.