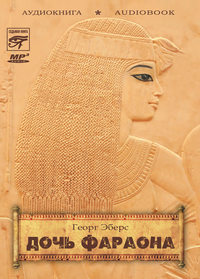Полная версия
Клеопатра
Если бы Антонию не пришлось уехать из Александрии, его второе посещение, без сомнения, не было бы последним. Кроме пения, которое привело его в восторг, он насладился оживленной и интересной беседой и мог любоваться замечательными картинами, которые Леонакс выменял у своих товарищей.
Произведения пластического искусства также украшали обширную комнату, посреди которой возвышался светильник в виде статуи.
Создателем его был тот самый скульптор, резцу которого принадлежала возбудившая столько споров статуя Антония и Клеопатры. Эрос из обожженной глины, прицеливавшийся из лука в невидимую жертву, был также его произведением. Антоний во время своего второго посещения положил перед ним венок, заметив шутливо, что приносит жертву «сильнейшему из победителей», а Антилл сегодня вечером грубо засунул букет в натягивавшую лук согнутую правую руку статуи. При этом он слегка повредил изваяние… В настоящую минуту цветы лежали на маленьком алтаре в глубине комнаты, тускло освещенной одной лампой, так как хозяйки перешли вместе с гостем в любимую комнатку Барины, украшенную несколькими картинами покойного отца.
Букет Антилла и попорченная статуя играли большую роль в разговоре с Архибием и значительно облегчили его задачу. Женщины встретили его жалобами на неприличное поведение молодого римлянина, и Барина объявила, что не намерена больше приносить жертвы Зевсу Ксениосу, покровителю гостей. В будущем она решила посвятить жизнь скромным домашним богам и Аполлону, отдать им свой дар пения как небольшую, но драгоценную жертву.
Архибий с изумлением слушал ее и начал говорить не прежде, чем она высказалась полностью и нарисовала ему свою будущую жизнь наедине с матерью, без шумных собраний в мастерской отца.
Воображение молодой женщины уже перенесло ее в новую, тихую жизнь. Но при всей живости ее рассказа умудренный опытом слушатель, по-видимому, не вполне был убежден. По крайней мере тонкая улыбка освещала по временам его резкие и вместе с тем меланхолические черты, черты человека, самоустранившегося с жизненной арены, отказавшегося от борьбы, ради роли зрителя наблюдающего, как другие возвышаются и падают в погоне за удачей. Быть может, раны, полученные им, еще не вполне зажили, но это не мешало ему оставаться внимательным наблюдателем. Взгляд его светлых глаз показывал, что он переживает то, что возбуждало в нем участие. Кто мог так слушать и кто передумал так много, тот не мог не быть хорошим советчиком. Именно за это достоинство Клеопатра отличала его перед всеми.
И в этот раз, как всегда, проявилась свойственная Архибию обдуманность, так как, явившись убедить Барину уехать, он не открыл цели своего посещения, пока она не поведала ему обо всех своих намерениях и не спросила, о каком таком важном деле он хотел поговорить с ней.
В общих чертах его предложение могло считаться уже принятым. Поэтому он начал с вопроса, не кажется ли им, что переход к новой жизни удобнее совершить, уехав на время из города. Все будут поражены, если завтра они перестанут принимать гостей, и так как о причине этого решения неудобно распространяться, то многие будут обижены. Если же они уедут на несколько недель, то многие пожалеют об их отъезде, но никому не будет обидно.
Мать тотчас согласилась с гостем, но Барина колебалась. Тогда Архибий попросил ее высказаться откровенно и, когда она спросила, куда же им уехать, предложил свое поместье.
Его проницательные серые глаза сразу заметили, что обстоятельства, удерживавшие Барину в городе, связаны с делами сердечными. Поэтому он пообещал, что избранные друзья будут время от времени навещать ее. Подняв голову, она обратилась к матери с веселым восклицанием:
– Едем!
Тут снова проявилось живое воображение дочери художника, нарисовавшее почти осязаемую картину будущего. Конечно, никто, кроме нее, не знал, на кого она намекает, говоря о госте, которого будет ожидать поместье Архибия. Ей очень понравилось его название, которое означает «Мирный приют».
Архибий слушал с улыбкой, но, когда она начала было рассказывать о его участии в катании на маленьких сардинских лошадках и в охоте на птиц, остановил ее, заметив, что его пребывание в поместье зависит от исхода другого, более важного дела. Он пришел к ним с легким сердцем, так как несколько часов тому назад слышал о блестящей победе царицы. Хозяйки позволят ему посидеть еще немного, чтобы у них дождаться подтверждения этой вести.
Видно было, что он не совсем спокоен.
Береника разделяла его тревогу, и ее доброе лицо, оживленное радостью по поводу благоразумного решения дочери, сделалось озабоченным, когда Архибий сказал:
– Теперь о цели моего посещения. Вы облегчили мне ее исполнение. Я мог бы теперь вовсе не упоминать о ней, но считаю это нечестным. Я пришел для того, чтобы на какое-то время удалить тебя из города. Мальчишеская дерзость сына Антония не представляет, на мой взгляд, ничего опасного. Но Барине не следует встречаться с Цезарионом.
– Пересели меня хоть на луну, только бы не видеть его! – воскликнула она. – Вот одна из причин, побуждающих меня изменить наш образ жизни. Неприлично мальчику, который должен еще ходить в школу, так злоупотреблять своим высоким положением. И мне вовсе не хочется называть «царем» этого сонного мечтателя с жалкими, умоляющими глазами!
– Но есть ли страсть, которая не может затаиться в сердце сына таких людей, как Юлий Цезарь и Клеопатра? – заметил Архибий. – А на этот раз он воспламенился не на шутку. Знаю, дитя, что ты тут ни при чем! Как бы то ни было, подобные чувства не могут не огорчать сердца матери. Поэтому отъезд следует ускорить и держать в секрете твое местопребывание. Он еще не приступал ни к каким действиям, но от сына таких родителей можно всего ожидать!
– Ты пугаешь меня! – воскликнула Барина. – Видишь опасного ястреба в воркующем голубке, залетевшем в мой дом?
– Считай его ястребом, – предостерег Архибий. – Ты приветливо принимаешь меня, Барина, и я люблю тебя с детства как дочь моего лучшего друга, но, предлагая тебе ехать в Ирению, я оберегаю не только тебя. Моя главная цель – избавить от горя или хотя бы простого беспокойства ту, которой я, как тебе известно, обязан всем.
Эти слова явно показали женщинам, что, как бы они ни были дороги Архибию, он не задумается принести их да, пожалуй, и весь свет в жертву покою и счастью царицы.
Барина и не ожидала от него ничего другого. Она знала, что Архибий, сын бедного философа, обязан Клеопатре своим богатством и обширными поместьями, но чувствовала, что его страстная привязанность к царице, о которой он пекся, как нежный отец, проистекала из другого источника. Обладай он честолюбием, ему бы ничего не стоило сделаться эпитропом и стать во главе правления, но – и это было известно всему городу – он не раз отказывался от выборных должностей, так как находил, что может принести больше пользы царице в скромной, незаметной роли советника.
Мать рассказывала Барине, что знакомство Архибия с Клеопатрой произошло еще в детстве. Но подробностей их сближения она не знала. Всякого рода сплетни возникали на этот счет и, украшенные разными выдумками и анекдотами, передавались из уст в уста как достоверные сведения. Барина, естественно, верила рассказам о детской любви царевны к сыну философа. По-видимому, его теперешнее отношение к ней подтверждало эту историю.
Когда он умолк, она сказала, что понимает его, и, указывая на портрет девятнадцатилетней Клеопатры работы Леонакса, прибавила:
– Не правда ли, в то время она была поразительно хороша?
– Так и изобразил ее твой отец, – отвечал Архибий, – Леонакс нарисовал тогда же портрет Октавии и, кажется, находил ее еще красивее.
При этом он указал на портрет сестры Октавиана, нарисованный Леонаксом, когда она еще состояла в первом браке с Марцеллом.
– Нет, – возразила Береника, – я очень хорошо помню это время. Могла ли я остаться равнодушной, слушая его восторженные рассказы о римской Гере[29]? Я еще не видала портрета, и на мой вопрос, неужели он находит Октавию красивее царицы, Леонакс с азартом воскликнул: «Октавия принадлежит к числу тех женщин, о которых говорят «хороша» или «не так хороша»; но Клеопатра, та стоит особняком, сама по себе, вне всякого сравнения».
Архибий утвердительно наклонил свою массивную голову и решительно произнес:
– Ребенком, впервые увиденным мной, она была прекраснейшей среди богов любви.
– А сколько же лет ей было тогда? – спросила Барина.
– Восемь лет! Как давно это было, а между тем я живо помню каждый час.
Барина попросила его тут же рассказать о том времени. Он задумался на минуту, потом поднял голову и сказал:
– Пожалуй, тебе следует познакомиться поближе с женщиной, для которой я требую у тебя жертвы. Арий вам брат и дядя. Он близок к Октавиану, потому что был его наставником. Я знаю, что он чтит Октавию, сестру римлянина, как богиню. Теперь Марк Антоний борется с Октавианом за владычество над Римом; Октавия уже пала в борьбе с женщиной, о которой вы хотите услышать. Не мое дело судить; я могу только поправлять ошибки и предостерегать. Римские матроны курят фимиам Октавии и отворачиваются, когда услышат имя Клеопатры. Здесь, в Александрии, многие делают то же, думая, что и к ним перейдет частица ее святости. Они называют Октавию законной супругой, а Клеопатру – разлучницей, похитившей у нее сердце мужа.
– Только не я! – горячо воскликнула Барина. – Я часто слышала об этом от дяди. Антоний и Клеопатра страстно любили друг друга. Никогда стрела Амура не проникала так глубоко в сердца двух любящих! Но было необходимо избавить государство от кровопролития и гражданской войны. Антоний решил заключить союз с соперником и в залог искренности примирения согласился предложить руку Октавии, только что потерявшей своего первого супруга. Руку, но не сердце, потому что сердце его уже принадлежало царице Египта. И если Антоний изменил супруге, которую навязала ему государственная необходимость, то этим самым сохранил верность другой, имевшей больше прав на него. И если Клеопатра не захотела бросить Антония, которому клялась в вечной любви, то она была права, тысячу раз права! На мой взгляд, Клеопатра, что бы ни говорила об этом моя мать, – была и есть истинная супруга Антония перед бессмертными богами, а та, другая, хотя при ее браке были соблюдены все обряды, все пункты, все формальности, только разлучница, не имевшая никакого права расторгать союз, которому боги радуются. Как бы ни возмущались люди и, прости меня, матушка, добродетельные матроны.
При этих словах Береника, слушавшая свою пылкую дочь с краской на лице, перебила ее, сказав с некоторой опаской, но убежденно:
– Я знаю, что теперь принято говорить, будто Клеопатра законная супруга Антония в глазах египтян и по их обычаю; знаю, что вы оба не согласны со мной. Но ведь Клеопатра гречанка, стало быть… Вечные боги!.. Можно ее пожалеть; но брак – святое дело, и я не могу сказать ничего против Октавии. Она воспитывает и лелеет детей неверного мужа от его первого брака с Фульвией, а ведь, в сущности, какое ей до них дело? А как она старается уладить все, что может повредить ему – ему, который сделался ее врагом! Вряд ли какая-нибудь женщина в Александрии горячее, чем я, молит богов о победе Клеопатры и ее друга над Октавианом. Его холодный рассудок, как бы ни восхищался им брат, претит мне. Но когда я гляжу на портрет Октавии, на это чудное, прекрасное, целомудренное, истинно благородное лицо, на это зеркало женской непорочности…
– Можешь им любоваться, – перебил Архибий, слегка прикасаясь к ее руке, – только советую тебе повесить этот портрет где-нибудь в укромном месте и высказывать вслух свое мнение об Октавии только брату да такому надежному другу, как я. Если мы победим, тогда, пожалуй, если же нет… однако вестник что-то замешкался…
Барина снова попросила его воспользоваться свободным временем и рассказать о царице. Она сама только однажды имела счастье обратить на себя ее внимание на празднике Адониса. Клеопатра подошла к ней и поблагодарила за пение. Царица сказала всего несколько слов, но таким голосом, который проник в сердце Барины и точно приковал ее к царице невидимыми нитями. При этом их взгляды встретились, и в первую минуту Барине захотелось прикоснуться губами хотя бы к краю платья своей царственной собеседницы, но тут же ею овладело такое чувство, будто из прекраснейшего цветка показалось жало ядовитой змеи…
Тут Архибий перебил Барину, заметив, что, насколько он припоминает, Антоний подошел к ней после пения вместе с царицей и что Клеопатре не чужды женские слабости.
– Ревность? – удивилась Барина. – Я никогда не доходила до такого тщеславия, чтобы вообразить что-нибудь подобное! Я подумала только, что Алексас, брат Филострата, настроил ее против меня. Он ненавидит меня так же, как и мой бывший муж, потому что я… Но все это так низко и отвратительно, что я не хочу портить себе настроение. Как бы то ни было, мое подозрение, что Алексас очернил меня перед царицей, не лишено основания. Он хитер, как и его брат, и, втеревшись в доверие к Антонию, имеет возможность часто встречаться с Клеопатрой. Он отправился вместе с ними на войну.
– Я слишком поздно узнал об этом, притом же я ничего не значу в сравнении с Антонием, – заметил Архибий.
– Но я-то, естественно, обеспокоена, что царица явно настроена против меня. Во всяком случае, я заметила в ее взгляде что-то враждебное, что оттолкнуло меня от нее, хотя сначала я стремилась к ней всем сердцем.
– И если бы другой не вмешался в отношения между вами, – прибавил Архибий, – ты бы уже не смогла расстаться с ней!.. Когда я в первый раз увидел ее, то и сам был совсем ребенком, а ей, как я уже сказал, было восемь лет.
Барина благодарно кивнула ему, принесла матери веретено, подлила воды в кружку с вином и сначала спокойно расположилась на подушках, потом слегка приподнялась и вся обратилась в слух, опершись локтями на колени и положив подбородок на руки.
– Вы знаете мой загородный дом в Канопе? – начал Архибий. – Сначала это был летний дворец царской фамилии. С тех пор как мы в нем поселились, там почти все осталось по-прежнему. Даже сад не изменился. Он полон тенистыми старыми деревьями. Придворный врач Олимп выбрал этот уголок для царских детей, порученных попечениям моего отца. В Александрии в то время было неспокойно, так как Рим уже довлел над нами, точно злой рок, хотя еще не признавал завещания, в котором злополучный Александр отказывал ему Египет, точно какое-нибудь поместье или раба.
Царем Египта был в то время довольно ординарный человек, величавший себя «Новым Дионисом»[30] с довольно сомнительными правами на престол. Вы знаете, что народ прозвал его Авлетом[31]. Действительно, больше всего на свете любил он музыку и сам играл на различных инструментах, и притом одинаково скверно на всех. Как пропойца, он оправдывал и другое свое прозвище. Остаться трезвым на празднике Диониса, земным воплощением которого он считал себя, значило нажить себе смертельного врага в его лице.
Жена Авлета, царица Тифена, и его старшая дочь, носившая твое имя, Береника[32], отравляли ему жизнь. В сравнении с ними он был во всех отношениях достойный и добродетельный человек. Во что превратились герои и мудрые, благомыслящие правители дома Птолемеев! Все пороки, все страсти свили гнездо в их дворце!
Авлет был, кстати, еще далеко не из худших. Своим страстям он предавался без удержу, так как никто не научил его управлять ими. В случае опасности он не прочь был прибегнуть к убийству. Но все-таки у него имелось одно несомненное достоинство: он питал отвращение к разврату, верил в добродетель и величие. В детстве ему попался хороший учитель. Кое-что из наставлений запало ему в душу, и вот он решил избавить от пагубного влияния матери, по крайней мере, своих любимых детей: двух младших дочерей.
Как я узнал впоследствии, он намеревался доверить всецело их воспитание моему отцу. Но это оказалось невозможным. Греки могли обучать царских детей наукам, но за их религиозное воспитание египетские жрецы держались крепко. Врач Олимп – вы знаете этого почтенного старца – настаивал на том, что Клеопатра, не отличавшаяся крепким здоровьем, должна проводить зиму в Верхнем Египте, где небо всегда ясно, а лето – на морском берегу, в каком-нибудь тенистом саду. Такой сад имелся при летнем дворце подле Канопа, и на нем остановился выбор врача. Когда мои родители переехали туда, он был совершенно пуст, но приезд царевен ожидался в самом непродолжительном времени. Для зимнего местопребывания Олимп выбрал островок Филы на нубийской границе, так как там находился знаменитый храм Исиды, жрецы которого охотно взялись смотреть за царевнами.
Обо всем этом царица и слышать не хотела, так как одна мысль провести лето вдали от Александрии, в каком-то захолустье под тропиками, внушала ей ужас. Итак, она предоставила мужу поступать как знает, да ей и самой хотелось избавиться от возни с детьми, так как позднее, после изгнания царя из Александрии, она ни разу к ним не заглянула. Правда, скорая смерть не оставила ей на это времени.
Ее старшая дочь и преемница, Береника, последовала ее примеру и не заботилась о сестрах. Я слышал позднее, что она разузнавала, как их воспитывают, и была очень довольна, что учителя не стараются пробудить в них жажду власти.
Братья Клеопатры воспитывались на Лохиаде под руководством нашего соотечественника Феодота и под присмотром опекуна Потина.
Понятно, что жизнь нашей семьи совершенно изменилась с прибытием царских детей. Во-первых, мы переселились с площади Мусейона в канопский дворец и очень обрадовались старому тенистому саду. Как сейчас помню утро – мне было тогда пятнадцать лет, – когда отец сообщил, что вскоре с нами будут жить царские дочери. Нас было трое в семье: Хармиона, которая теперь отправилась на войну с царицей, так как Ира захворала перед самым отъездом, я и Стратон, которого уже давно нет в живых.
Нас просили вести себя вежливо и почтительно с царевнами. Да мы и сами понимали, что это особы важные, так как пустой и заброшенный дворец был перестроен сверху донизу к их приезду.
Накануне приезда девочек появились лошади, повозки, носилки, а на море лодки и великолепный корабль с полным вооружением. Кроме того, прибыла толпа рабов и рабынь и два толстых евнуха.
Я хорошо помню расстроенное лицо отца при виде этой оравы. Он тотчас отправился в город, и, когда вернулся, его светлые глаза смотрели по-прежнему весело. Вместе с ним приехал придворный чиновник и отправил обратно весь лишний народ и хлам, оставив только самое необходимое, по указаниям отца.
На следующее утро мы ожидали их приезда; лужайки и кустарники пестрели цветами, деревья уже оделись яркой зеленью – дело происходило в конце февраля. Я взобрался на большой сикомор перед воротами, чтобы увидеть их издали. Мне пришлось-таки изрядно подождать, и, окинув взором сад, я сказал себе, что он должен им понравиться, потому что такого нет ни при одном дворце в городе.
Наконец показались носилки, без вестников и свиты, как и просил отец, и когда девочки вышли из них, обе разом, у меня просто глаза разбежались. Та, которая не вышла, а выпорхнула, как мотылек, из передних носилок, не была девочкой такой же, как все другие, она явилась передо мной, как желание, как надежда. И пока это нежное, прелестное существо осматривалось, поворачивая головку туда и сюда, и наконец уставилось большими влажными, точно умоляющими о помощи глазами на моих отца и мать, вышедших навстречу царевнам, я думал, что такова и была Психея, явившаяся с мольбой перед престолом Зевса.
Но и на другую стоило посмотреть!
«Не эта ли Клеопатра?» – подумал я.
Ее можно было принять за старшую, но какая разница с первой! У той – она-то и оказалась Клеопатрой – все, от вьющихся волос до малейшего жеста, казалось эфирным; вторая была точно выкована из меди. Обеими ногами выпрыгнула она из носилок, твердо ухватилась за дверцу и надменно вздернула головку с густыми черными кудрями. Румянец играл на ее белом личике, голубые глаза светились так же ярко, но выражение их было скорее повелительным, и, осматриваясь кругом, она слегка скривила губки, как будто все окружающее представлялось ей низким и недостойным ее особы.
Это несколько огорчило меня, и я подумал, что как ни хорошо у нас, однако такая простая и скромная – благодаря стараниям моего отца – обстановка должна показаться бедной и жалкой после золота, мрамора и пурпура царских покоев.
Она тоже была хороша собой и невольно привлекала внимание. Впоследствии, видя ее повелительные манеры и настойчивость, с которой она добивалась исполнения всех своих желаний, я подумал в своей ребяческой наивности, что Арсиное следовало бы быть старшей, так как она более способна управлять государством, чем Клеопатра. Я сообщил об этом сестрам, но вскоре мы все увидели, кому свойственно истинное величие. Арсиноя, если ее желание не исполнялось, могла плакать и капризничать, приходить в неистовство или, когда ничего другого не оставалось, канючить и приставать. Клеопатра же достигала своих целей иными способами. Она уже тогда знала, каким оружием может одержать победу, и, пользуясь им, неизменно оставалась царской дочерью.
Пафос, напыщенность были так же чужды этому воплощению кроткой, нежной прелести, как любой дочери ремесленника; нежный голос, чарующий взгляд и в крайнем случае немые слезы – вот какими средствами побеждала она самый решительный отказ. Никакое сопротивление не могло устоять против этих чар, к которым присоединялись несколько слов вроде: «Как бы я была рада» или: «Разве ты не видишь, что это огорчает меня?» Да и позднее, в самые критические минуты жизни, немые слезы и чарующий голос всегда помогали ей одерживать победу.
Мы, молодежь, вскоре подружились с ними. Учение началось не прежде, чем царевны освоились в нашей семье. Арсиное это пришлось по вкусу, хотя она уже умела читать и писать; но Клеопатра не раз требовала, чтобы отец, о мудрости которого она много наслышалась, начал занятия как можно скорее.
Царь и прежние учителя Клеопатры много рассказывали отцу о дарованиях этого необыкновенного ребенка, а врач Олимп поймал меня как-то и заметил, что мне нужно держать ухо востро, не то царевна несомненно быстро обгонит сына философа. Я всегда был в числе первых учеников и, смеясь, отвечал ему, что не нуждаюсь в предостережениях.
Оказалось, однако, что предостережение Олимпа имело основание. Вы, пожалуй, подумаете, вот расчувствовался старый дурак и вспоминает о талантливой девочке, как о какой-то богине. Богиней она не была, конечно, ибо лишь бессмертные свободны от слабостей и недостатков.
– Что же тебя заставило приравнивать Клеопатру к богам? – перебила Барина.
Архибий улыбнулся и отвечал слегка укоризненным тоном:
– Если бы я вздумал рассказывать вам о ее добродетелях, тебе вряд ли бы вздумалось расспрашивать меня о подробностях. Но к чему я буду скрывать то, что она выставляет напоказ перед целым светом? Ложь и лицемерие всегда были ей чужды, как рыбная ловля сыну пустыни. Отличительными чертами этого удивительного существа всегда были два неутолимых желания: господствовать над всяким, с кем она сталкивалась, и второе – любить и быть любимой. Из них выросло все то, что ставит ее так высоко над остальными женщинами. Честолюбие и любовь, как два могучих крыла, вознесли ее на такую высоту. До сих пор им помогало редкое счастье, и так, если угодно олимпийцам, останется и на будущее время!
Здесь Архибий остановился, отер капли пота, выступившие на лбу, осведомился насчет вестника и, вернувшись к хозяйкам, продолжал:
– Царские дочери сделались нашими товарищами и с течением времени друзьями. В первые годы их отец позволял им проводить на острове Филы только самые суровые зимние месяцы, так как не хотел отпускать их далеко.
Правда, он редко виделся с ними. Иной раз проходила неделя за неделей, а он и не заглядывал в наш дом. Иногда же являлся каждый день, в простом платье и носилках, так как скрывал эти посещения от всех, кроме врача Олимпа.
Именно поэтому мне частенько приходилось видеть его. Это был высокий, сильный человек, с красным одутловатым лицом, возившийся с детьми, как ремесленник после работы. Впрочем, посещения его всегда бывали непродолжительными. По-видимому, он приходил, только чтобы повидаться с дочерьми. Может быть, ему хотелось посмотреть, хорошо ли им у нас живется. Во всяком случае никто не смел подходить к группе вязов, где он играл с ними.
Но в густой кроне дерева нетрудно было спрятаться, и, таким образом, я мог слышать их беседы.
Клеопатре с самого начала понравилось у нас, Арсиноя же не сразу привыкла к новой обстановке; но царь придавал значение только мнению старшей, своей любимицы, в которой души не чаял. Часто, глядя на нее, он покачивал головой и, слушая ее бойкие ответы, смеялся так громко, что его зычный хохот доносился до дома.
Однажды, впрочем, довелось мне увидеть, как слезы катились по его багровому лицу, хотя на этот раз его посещение было еще непродолжительнее, чем всегда. Он явился в закрытой армамаксе[33] и прямо из нашего дома отправился на корабль, который должен был отвезти его на Кипр, а оттуда в Рим. Александрийцы, с царицей во главе, принудили его оставить город и страну.