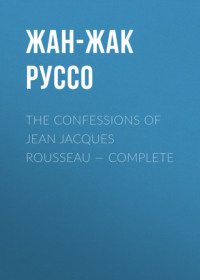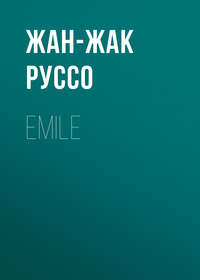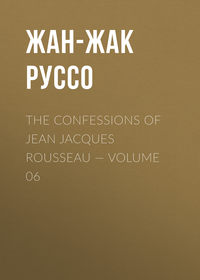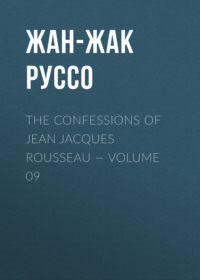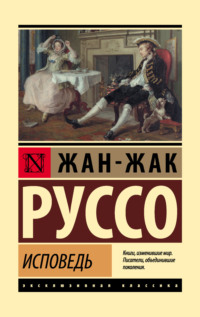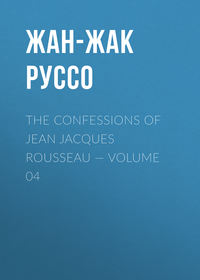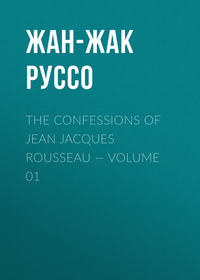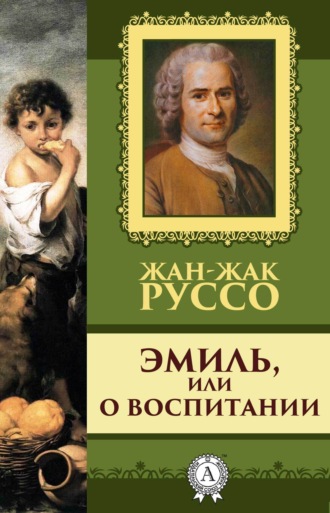
Полная версия
Эмиль, или о воспитании
Выбор кормилицы тем важнее, что у питомца не должно бы быть другой воспитательницы, как не должно быть другого учителя, кроме воспитателя. Таков был обычай у древних, более мудрых и меньше умствовавших, чем мы. Выкормив девочку, кормилицы не покидали ее больше. Вот почему в древних театральных пьесах большинство наперсниц – кормилицы. Невозможно, чтобы ребенок, переходящий постепенно столько различных рук, был хорошо воспитан. При всякой перемене, он делает втайне сравнения, всегда порождающие в нем уменьшение уважения к его руководителям, а следовательно уменьшение их власти над ним. Если в нем зародится мысль, что есть взрослые, которые так же неразумны, как и дети, весь авторитет лет падает, и воспитание не может быть удачно. У ребенка не должно быть никакого авторитета, кроме авторитета отца и матери, или их кормилицы и воспитателя. Даже и из этих двух лиц одно лишнее; но такое разделение неизбежно и единственный способ помочь делу состоит в том, чтобы оба лица, руководящие ребенком, так сходились во мнениях своих о нем, что составляли бы для него одно лицо.
Кормилице нужна спокойная жизнь и питательная пища, но не следует ей совершенно изменять прежнего образа жизни, потому что всякая быстрая и резкая перемена, даже от худшего к лучшему, всегда опасна для здоровья, а так как прежний образ жизни дал ей и здоровье и хорошее сложение,[7] то к чему же изменять его?
Деревенские женщины едят меньше говядины и больше овощей, нежели городские, и эта растительная пища, кажется, скорее благоприятна, нежели неблагоприятна, и для них, и для детей их. Как скоро такой женщине поручают питомца из высшего сословия, ее начинают кормить говяжьим супом в уверенности, что суп и бульон более питательны и увеличивают количество молока. Я вовсе не согласен с этим, и за меня говорит опыт, показывающий, что дети, которых кормят таким образом, более подвержены коликам и глистам, нежели другие.[8]
Это нисколько не удивительно, ибо животное вещество, когда разлагается, кишит червями, чего не бывает с веществом растительным. Молоко, хотя и вырабатывается в теле животного, есть вещество растительное; анализ доказывает это; оно легко скисается и не только не дает, как животные вещества, никакого следа летучей щелочи, но дает, как растения, нейтральную соль.
Женщины едят хлеб, овощи, молочное; самки собак и кошек едят то же самое; волчицы едят даже траву. Вот растительные соки для их молока. Не исследованным остается только молоко тех пород, которые питаются исключительно одним мясом – если только есть таковые, в чем я сомневаюсь.
Молоко травоядных самок слаще и здоровее, чем молоко плотоядных. Состоя из веществ, однородных с ним, оно лучше сохраняет свой характер и менее способно разлагаться. Касательно же количества, всякий знает, что мучная пища дает больше крови, нежели мясная; она должна, следовательно, давать также и больше молока. Мне не верится, чтобы ребенок, которого не слишком рано отняли от груди, кормили, отняв от груди, только растительною пищей, и кормилица которого точно также питалась только растительною пищей, – чтобы такой ребенок когда-нибудь страдал от глистов.
Возможно, что растительная пища дает молоко, более способное киснуть; но я вовсе не смотрю на кислое молоко как на нездоровую пищу: целые народы, не употребляющие другого, ни мало от него не страдают, а все это пародирование веществами, поглощающими кислоту, кажется мне чистым шарлатанством. Есть натуры, для которых молоко не годится, и никакое поглощающее кислоту вещество не может сделать его сносным; другие переносят его без всяких вспомогательных веществ. Бояться кислого молока глупо, так как известно, что молоко всегда скисается в желудке. Это-то и делает его питательным: если б оно не скисалось, то только проходило бы в желудке, не питая его. Сколько ни разбавляй молоко, и какие ни употребляй поглощающие кислоту вещества, тем не менее тот, кто употребляет в пищу молоко, переваривает творог. Этому нет исключений. Желудок так хорошо способствует скисанию молока, что сывороточная закваска делается помощью телячьего желудка.
Итак, по-моему, следует не изменять обычной пищи кормилицы, а только давать ей эту пищу в большем количестве и лучшего качества. Постная пища горячительная не по своему содержанию, а по приправам своим. Измените правила вашей кухни, не употребляйте больше поджаренного масла; пусть масло, соль и все молочное не проходит чрез огонь; варите овощи в воде и приправляйте их тогда, когда они, горячие, поданы на стол, – постное не только не будет горячить кормилицы, но даст ей молоко в изобилии и самого лучшего качества.[9]
Воздух особенно влияет на сложение детей, в первые года их жизни. В нежную и мягкую кожу, он проникает чрез все поры и сильно действует на молодые организмы. Он производит на них впечатления, которые никогда не изглаживаются. Поэтому, я вовсе не того мнения, чтобы крестьянку брать из деревни и запирать в городскую комнату; по мне гораздо лучше ребенка отправить дышать свежим, деревенским воздухом, вместо испорченного, городского. Он свыкнется с положением своей новой матери, будет жить в ее деревенском жилище, а воспитатель последует за ним. (Читатель помнит, что этот воспитатель не нанят за деньги, а что он друг отца.)
Людям не предназначено скучиваться, как в муравейниках, но быть рассеянными по земле, которую они должны возделывать. Чем больше сбирается людей в одном месте, тем сильнее их порча. Телесные немощи и пороки души составляют неизбежное следствие слишком большого скопления людей в городе. В несколько поколений племя погибает или вырождается; ему нужно постоянное обновление, а обновление это дают села. Посылайте же своих детей обновляться и восстановлять, среди полей, силы, утраченные во вредной атмосфере. Беременные женщины, живущие в деревнях, спешат возвратиться, ко времени родов, в город: они должны были бы поступать наоборот, в особенности те, которые хотят сами кормить своих детей. Им не пришлось бы сожалеть об этом, а при более естественной обстановке жизни удовольствия, связанные с обязанностями, налагаемыми природою, скоро отняли бы охоту к другим удовольствиям.
Тотчас после родов ребенка обмывают теплою водою, к которой обыкновенно примешивают вина. Прибавление вина кажется мне совершенно ненужным: природа ничего не производит в состоянии брожения, и поэтому невероятно, чтобы употребление искусственной жидкости было необходимо для жизни ее созданий. По этой же причине предосторожность нагревания воды вовсе не необходима; и действительно множество народов моет новорожденных детей просто в реке или в море; наши же дети, изнеженные еще до рождения, вялостью отцов и матерей, родятся уже с испорченным темпераментом, которого нельзя сразу подвергать испытаниям. Надо стараться вдоволь возвратить им естественную крепость. Итак, сначала держитесь принятого обычая и уклоняйтесь от него только мало-помалу. Мойте чаще детей; их неопрятность показывает, что это необходимо: простое утирание дерет их кожу. Но по мере увеличения сил ребенка, понижайте постепенно температуру воды, пока не дойдете до холодной и даже до ледяной. Так как, во избежание опасности, охлаждение это должно быть медленно, постепенно и нечувствительно, то для большей точности можно употреблять термометр.
Раз установившаяся привычка мыться не должна нарушаться; я считаю ее важною не только со стороны опрятности и здоровья, но и как полезную меру для развития гибкости фибр и для придания им привычки переносить различные степени жара и холода. С этою целью, следовало бы приучаться мало-помалу к купаньям в теплой воде всех градусов, какие можно перенести, так же как и в холодной воде всех возможных градусов. Таким образом, приучив себя переносить различную температуру воды, которая, как более плотная жидкость, имеет больше точек соприкосновения с нашим телом, можно сделаться почти нечувствительным во всем изменениям температуры воздуха.
Не допускайте, чтобы новорожденного ребенка, только что покинувшего своя оболочки и начавшего дышать, снова завертывали и стесняли. Долой чепчики, долой свивальники; заверните его в широкие пеленки, так чтоб всем его членам было просторно; пеленки не должны быть ни слишком тяжелы и стеснять его движений, ни слишком теплы и препятствовать доступу воздуха. (Воспитатели, кажется, еще не постигли, что холодный воздух не только не вреден, но укрепителен, а теплый расслабляет и производит лихорадку.) Положите, затем, ребенка в просторную колыбель (я употребляю это слово за неимением другого, но убежден, что никогда не следует качать детей), тщательно обитую внутри, так, чтоб он мог свободно и безопасно двигаться. Когда он начнет крепнуть, пустите его ползать по комнате; дайте ему развивать, протягивать свои маленькие члены; вы увидите, что они будут укрепляться с каждым днем.
Надо в этом случае вперед приготовиться к сильному сопротивлению со стороны кормилицы, которой гораздо меньше дела со спеленатым ребенком, нежели с таким, за которым нужен постоянный надзор. К тому же, неопрятность ребенка заметнее в открытой одежде; его нужно чаще обмывать. Наконец, и обычай не всегда можно осилить. Не рассуждайте поэтому с кормилицами; приказывайте, наблюдайте за исполнением и ничего не щадите для облегчения ей забот, предписываемых вами. Воспитатель учится у первого наставника ребенка – у природы, и не допускает препятствий ее попечениям. Он следит за питомцем и бдительно подстерегает первые проблески его слабого понимания.
Мы родимся ничего не зная и ничего не понимая. Душа, скованная несовершенными и наполовину сформированными органами, не имеет еще сознания о своем собственном существовании. Движения, крики новорожденного ребенка, суть чисто-механические проявления, лишенные сознания и воли. Но вместе с рождением начинается и воспитание ребенка; прежде чем начать говорить, прежде чем начать слышать, он уже учится. Опыт предупреждает уроки; в тот момент, когда он узнает свою кормилицу, он уже многому научился. Мы удивились бы обширности познаний самого невежественного человеку, если б следили за его развитием с минуты рождения. Если б все человеческое знание разделить на две части: одну общую всем людям, другую принадлежащую только ученым, последняя показалась бы весьма ничтожною сравнительно с первою. Но мы вовсе не думаем о приобретении общих понятий, потому что оно делается бессознательно и даже прежде достижения разумных лет.
Животные точно так же многое приобретают. У них есть чувства; нужно научиться употреблять в дело эти чувства. У них есть потребности; нужно научиться удовлетворять им; нужно научиться есть, ходить, летать. Четвероногие, становящиеся на ноги с самого рождения, несмотря на то, не умеют ходить; по первым их шагах видно, что это не твердые попытки. Птицы, вылетающие из клетки, не умеют летать, потому что никогда не летали. Все служит наукою живым и чувствующим существам.
Первые ощущения детей чисто страдательные; они замечают только удовольствие или боль. Так как ребенок не в состоянии ни ходить, ни осязать, то ему нужно много времени для приобретения представляющих ощущений, которые показывают ему предметы вне их самих. Но, прежде чем эти предметы начнут так сказать удаляться от глаз и получат размеры и образы, постоянство страдательных ощущений начинает подчинять ребенка владычеству привычки; глаза его беспрестанно ищут света, и если свет падает сбоку, то они нечувствительно принимают это направление, так что нужно стараться всегда держать ребенка лицом к свету, из опасения сделать его косым. Нужно также с ранних пор приучать его к потемкам, иначе он будет постоянно плакать при отсутствии света. Слишком аккуратно распределяемые пища и сон становятся необходимыми ребенку в известные, определенные часы, и позыв к ним рождается скоро уже не от потребности, а от привычки, или скорее привычка прибавляет к естественным потребностям новую. Это необходимо предупреждать.
Единственная привычка, которую надо развить в ребенке, есть отсутствие всяких привычек. Не носите его на одной руке чаще, чем на другой, не приучайте его подавать одну какую-нибудь руку, или чаще употреблять ее в дело, не приучайте его есть, спать и двигаться в одни и те же часы, не уметь переносить одиночества ни днем, ни ночью. Исподоволь подготовляйте его к свободе и к пользованию всеми его силами, приучая его владеть собою и во всем исполнять свою волю, как скоро она у него явится.
Как только ребенок начинает различать предметы, нужно с выбором показывать их ему. Очень естественно, что все новые предметы интересуют человека. Он чувствует себя столь слабым, что боится всего незнакомого: привычка безнаказанно видеть новые предметы уничтожает в нем эту боязнь. Дети, воспитанные в домах, где соблюдается чистота, боятся например пауков, и эта боязнь нередко остается у них на всю жизнь. Но я никогда не видывал, чтобы кто-нибудь из крестьян боялся пауков.
Как же не начинать воспитание ребенка еще прежде, нежели он научится говорить и понимать, если уже от одного выбора предметов, которые ему показывают, зависит развитие в нем боязливости или мужества? Я хочу, чтобы его приучали к незнакомым предметам, некрасивым, отвратительным, к странным животным, – и все это мало-помалу, исподоволь, пока он не привыкнет к ним и, видя как другие берут их в руки, не начнет, наконец, сам брать их. Если в детстве он без боязни глядел на жаб, змей, раков, то впоследствии будет без отвращения смотреть на какое угодно животное. Страшных предметов не существует для того, кто видит их каждый день.
Все дети боятся масок. Я начну с того, что покажу Эмилю красивую маску; затем кто-нибудь при нем наденет эту маску на лицо: я засмеюсь; все станут смеяться, и ребенок засмеется вместе со всеми. Мало-помалу, я приучу его к менее красивым маскам, а, наконец, и к отвратительным. Если я хорошо наблюдал градацию, он не только не испугается последней маски, но будет смеяться над нею, как над первою. После того он уже не испугается маски.
Если нужно приучить Эмиля к звуку огнестрельного оружия, я сначала сжигаю затравочный порох в пистолете. Эта внезапная вспышка веселит его; я повторяю то же самое с большим количеством пороха; мало-помалу я прибавляю в пистолет небольшой заряд без пыжа, затем больший заряд; наконец, приучаю его к выстрелам из ружья, из мортир, из пушек, – к самой сильной пальбе.
Я замечал, что дети редко боятся грома, если только раскаты не совершенно невыносимы для органа слуха; боязнь эта является у них только тогда, когда они узнают, что гром ранит, а иногда и убивает. Когда разум начинает пугать их, устройте так, чтобы привычка ободряла их. Наблюдая медленную и искусную градацию, можно предупредить и в человеке и в ребенке всякую боязнь.
В первые годы жизни, когда память и воображение еще бездействуют, ребёнок обращает внимание только на то, что влияет в данную минуту на его чувства. Так как ощущения являются первым материалом его познаний, то возбуждать в нем ощущения, в приданом порядке значит подготовить его память к напоминанию о них, в таком же порядке, разуму. Но так как ребенок внимателен только к своим ощущениям, то сначала достаточно показать ему связь между этими ощущениями и самыми предметами, которые их производят. Он хочет до всего дотронуться, все взять в руки: не препятствуйте этой пытливости, она многому научает его. Этим путем приучается он ощущать теплоту, холод, твердость, мягкость, тяжесть и легкость тел; судить об их величине, виде и других внешних свойствах; судит он тут посредством зрения, осязания, слуха и, в особенности, посредством поверки зрения осязанием, т. е. посредством определения на взгляд того ощущения, которое предметы произвели бы на его пальцы. Обоняние развивается в детях позже всех других чувств: ранее двух-трех лет они кажутся нечувствительными к хорошему и дурному запаху. Они выказывают в этом отношении то же равнодушие, – или скорее нечувствительность – которое замечается во многих животных.
Мы только чрез движение узнаем, что есть вещи, которые не суть мы, и только чрез наше собственное движение получаем идею о расстоянии. Ребенок, именно потому, что лишен этой идеи, одинаково протягивает руку за близким и за далеким предметом. Усилие, которое он делает, кажется вам повелительным проявлением, приказанием предмету приблизиться, или вам – приблизить его; вовсе нет, оно доказывает только, что предметы кажутся ему под руками, а он не может себе представить недосягаемого расстояния. Поэтому надо чаще носить гулять ребенка, переносить его с одного места на другое, и давать ему чувствовать перемену места, чтобы научить его судить о расстояниях. Как скоро он начнет сознавать их, нужно изменить методу и носить его только тогда, когда вам вздумается, а не тогда, когда он пожелает; потому что, как скоро чувство не обманывает его больше, усилие его происходит уже от другой причины. Эта перемена замечательна и требует пояснения.
Беспокойство от ощущения потребностей, когда, для удовлетворения их, нужна чужая помощь, выражается знаками: отсюда крики детей. Там как все ощущения у них страдательные, то, если эти ощущения приятны, дети наслаждаются ими молча; если же они неприятны, дети выражают это на своем языке и просят облегчения. Во время бодрствования дети почти не бывают в состоянии равнодушия; они или спят, или ощущают.
Все наши языки – произведения искусства. Долго искали, нет ли природного и общего всем людям языка; он, несомненно, есть: это тот язык, который употребляют дети прежде, нежели выучиваются говорить. Это язык без слов, но выразительный, звучный, понятный. Мы его забыли; но станем изучать детей, и около них мы его скоро припомним. Учителями этого языка нам могут быть кормилицы; они понимают все, что говорят их питомцы; они отвечают им, ведут с ними длинные разговоры, и хотя произносят слова, но слова эти совершенно излишни. Дети понимают не смысл слова, а выражение, с которым оно сказано.
К языку голоса присоединяется не менее энергический язык жеста. Этого жеста нужно искать не в слабых руках детей, а на их лицах. Удивительно, как много выражения в этих, еще не вполне сформировавшихся физиономиях: черты их ежеминутно изменяются с непостижимою быстротой: вы видите, как улыбка, желание, страх появляются на их лицах и исчезают, подобно молнии; каждый раз вы как будто видите новое лицо. Мускулы лица у них, несомненно, подвижнее, чем у нас. Но взамен того тусклые глаза их почти ничего не говорят. Таковы и должны быть внешние выражения в возрасте, когда знакомы только телесные нужды; в движениях мускулов лица выражаются ощущения, во взглядах – чувства.
Так как первое состояние человека – состояние беспомощности и слабости, то первыми звуками его бывают жалоба и плач. Ребенок чувствует нужды и не может им удовлетворить, – криками испрашивает он чужой помощи. Из этого плача, который казалось бы так мало заслуживает внимания, возникает первое отношение человека ко всему, что его окружает: здесь куется первое звено длинной цепи, из которой образуется общественный строй.
Когда ребенок плачет, он дает знать, что ему не по себе, что он испытывает какую-нибудь потребность, удовлетворить которой не может: мы разыскиваем, стараемся найти, какого рода эта потребность, и, найдя ее, удовлетворяем ей. Если мы не находим этой потребности или не можем удовлетворить ей, плач продолжается и начинает надоедать: ребенка ласкают, чтобы заставить замолчать, убаюкивают, чтобы заставить заснуть; если он упрямится, является раздражение и ребенку начинают грозить; грубые кормилицы бьют его иногда. Странные наставления на первый путь жизни!
Я никогда не забуду одного из таких беспокойных плакс, прибитого при мне кормилицей. Он тотчас же замолчал: я подумал, что он испугался. Вот будет раболепная душа, от которой, иначе как строгостью, ничего не добьешься, – подумал я. Я ошибся: несчастный задыхался от гнева, у него захватило дыхание; я видел, как он посинел. Чрез минуту послышались пронзительные крики; вся злоба, ярость и отчаяние, на какие способен этот возраст, выражались в этих криках. Я боялся, чтобы он не умер от этого волнения. Если б я даже сомневался, что чувство справедливого и несправедливого прирожденно человеческому сердцу, один этот пример убедил бы меня. Я уверен, что горячий уголь, упавший случайно на руку этого ребенка, был бы ему менее чувствителен, чем удар, довольно слабый, но нанесенный с очевидным намерением оскорбить его.
Это расположение детей к вспыльчивости, досаде, гневу требует чрезвычайной осторожности. Боргаве полагает, что большая часть детских болезней принадлежит к разряду конвульсивных: так как голова пропорционально больше, а нервная система обширнее, чем у взрослых, то и способность раздражения сильнее. Старательно удаляйте от детей прислугу, которая их дразнит, сердит, раздражает; она для них во сто раз вреднее, чем суровость воздуха и погоды. Пока дети будут встречать сопротивление только в вещах, а не в воле, они не сделаются ни своенравными, ни злыми и будут здоровее. В этом заключается одна из причин, почему дети простолюдинов, более свободные, более независимые, вообще не так болезненны, не так изнеженны, гораздо крепче, чем те, которых мечтают лучше воспитать помощью постоянных возражений на их желания. Надо, однако, помнить, что большая разница – повиноваться им и не дразнить их.
Первый плач детей выражает просьбу: при недостатке осторожности, просьбы детей скоро превращаются в приказания; сначала дети просят помощи, а потом заставляют себе повиноваться. Таким образом, слабость, внушающая им сначала чувство зависимости, порождает потом идею власти и господства; но так как не столько их потребности, сколько наши услуги, возбуждают в них эту идею, то тут начинают уже проявляться нравственные действия, непосредственная причина которых лежит не в природе; и вот почему с самого первого возраста следует разбирать тайное намерение, внушающее ребенку жест или крик.
Когда ребенок протягивает руку, молча и с усилием, он думает достать предмет, потому что не оценивает расстояния: он заблуждается в этом случае. Но когда, протягивая руку, он жалуется и кричит, тогда он не обманывается относительно расстояния, а приказывает или предмету приблизиться, или вам принести его. В первом случае медленными шагами поднесите ребенка к предмету; во втором – не показывайте даже вида, что слышите крик: чем сильнее он будет, тем меньше должны вы его слушаться. С ранних пор, следует приучить ребенка не повелевать ни людям, потому что он им не господин, ни вещам, потому что они его не слышат. Таким образом, если ребенок желает какой-нибудь вещи, которую видит и которую хотят ему дать, лучше поднести ребенка к вещи, нежели вещь к ребенку: он извлекает из этого действия вывод, который свойствен его возрасту и которого иначе нет средств внушить ему.
Гоббс назвал злого человека сильным ребенком. Это совершенно ложно. Злость всегда порождается слабостью; ребенок только потому и зол, что слаб; сделайте его сильным, он будет добр: личность, которая могла бы всегда и все сделать, никогда не делала бы зла. Из всех атрибутов всемогущего Божества доброта есть такой атрибут, без которого нельзя себе представить Божество. Все народы, признававшие существование двух начал, всегда считали злое начало слабее доброго.
Один только разум научает нас распознавать добро и зло. Хотя совесть, благодаря которой мы любим одно и ненавидим другое, и не зависит от разума, но не может без него развиваться. До наступления разумных лет, мы делаем добро и зло, сами того не зная. Ребенку хочется взбудоражить все, что он видит; он ломает и бьет все, до чего может достать. Он хватает птицу, как схватил бы камень, и душит ее, не сознавая, что делает. Отчего это? Философия объясняет это врожденными пороками: надменностью, властолюбием, самолюбием, злостью человека; сознание своей слабости, могла бы она прибавить, делает ребенка жаждущим поступков, выражающих силу и доказывающих ему его собственное могущество. Но взгляните на дряхлого и немощного старика, которого круговорот человеческой жизни снова привел к слабости ребяческого возраста: он не только остается неподвижным и спокойным, но хочет еще, чтобы все было спокойно вокруг него. Малейшая перемена тревожит и беспокоит его. Каким же образом тоже бессилие, соединенное с теми же страстями, произвело бы столь различные действия в двух возрастах, если бы первоначальная причина не была различна? А в чем можно искать это различие причин, как не в физической организации двух индивидов? Деятельное начало, свойственное обоим, в одном развивается, а в другом потухает; один стремится к жизни, а другой к смерти. Ослабевающая деятельность сосредоточивается в сердце старика; у ребенка же она изобилует, выходит наружу; он чувствует в себе, так сказать, достаточно жизни, чтобы оживить все, что его окружает. Создает ли он или разрушает, все равно, – лишь бы изменялось состояние предметов: всякое изменение есть действие. Если у ребенка заметна по-видимому большая наклонность к разрушению, так это происходит не от злости, а от того, что действие созидающее всегда медленно, а разрушающее, будучи быстрее, больше подходит к его живости.