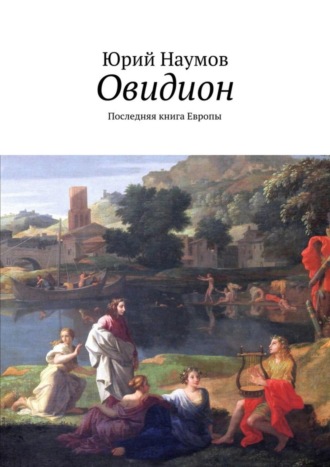
Полная версия
Овидион. Последняя книга Европы
В тот день я не смог уйти от ее порога. Сидел на корточках, спиной привалившись к тумбе у двери. После заката пришел Марк, увел меня домой. Через неделю грек бежал из Рима. Думаю, постарался мой отец.
*
В апреле, на восходе Вейи, я будто заново родился. После нашей первой встречи, разыскивая в книжных сундуках свои давние заметки, я нашел амулет Леогена. В бархатном чёрном мешочке он лежал между Гесиодом и Сафо. Я машинально одел его, и в тот же миг отказали ноги. Из-под меня точно выбили пол. Ярость и горячая тоска, державшие меня прямо в последние римские годы, исчезли. Я привалился к краю ложа и молча смотрел, как мысли распадаются на куски, и медленно тают, но ещё никогда я не замечал за своим разумом такой бодрости. Все исчезает, и ничто не уходит, – я не подумал это, а скорее вспомнил. Все только меняет образ, и когда одна известная форма переходит в другую, неизвестную, этот миг мы считаем смертью. Но что меняет форму? Я вскочил на ноги, хлебнул остывшего вина и побежал к себе в башенку – там я работал, обычно стоя, пританцовывая на месте или кружась по комнате со стилом в руке. Я спешил записать тысячи пронесшихся сквозь меня картин, работал как проклятый. Иди к богам и красоте, говорило сердце, отдай себя разнообразию без цели и смысла, позволь себе. Ссоры, встречи, события – все ушло в тень «Метаморфоз». Ещё никогда не было так легко. Я сходу брал такие бастионы, о которых даже помыслить не мог последние тридцать лет, с того часа, когда задумал эту поэму и тут же устрашился ее величия. Но теперь меня подхватил поток немыслимый, необъяснимый, и в ту ночь, когда Вейя кружилась в саду, я увидел каждую строчку.
У себя на вилле Силан приказал разрушить юго-западную стену, выходившую к морю. Ему постоянно не хватало воздуха из-за старой раны, в Риме даже зимой он ночевал в саду, а здесь и вовсе разошелся, открывая путь своему дыханию. Морское тепло свободно бежало навстречу, разбавленное простором, где повис ледяной шарик Луны. Силан и его подруга покоились на одном ложе, она впереди, в тени расслабленной громады его мускулов, жестов и сорванного командирского голоса. Вейя вздрагивала от смеха, как и все мы. Силан был в ударе, он рассказывал о своей жизни в Египте, Вейя вскидывала хохочущее лицо к нему, а я не знал, как вынести ее ошеломительное присутствие. Силан уговорил подругу станцевать, и она кружилась под журчание флейт и вкрадчивые подсказки тимпанов, тая шелками в легком, неспешном горении ночи, и я смотрел на нее, понимая, что жизнь знать ничего не знает о правилах и законах. Жизнь всего лишь танцует и меняет маски, и вечность для нее ничто, и страсть, и вражда, и любовь.
Свежий ветерок вымыл все лишнее из головы. Последний шум скатился в море; Силан отпустил музыкантов спать. Потрескивало масло в светильниках, над головами шелестел освещенный пурпур, и уже трудно было различить статуи в аллеях, а в воздухе посверкивали искры и мошкара, стрекотали глубокие травы, и было так хорошо и полно здесь, в обнаженном сердце Италии… Что держит меня в Риме? Ведь можно упустить главное, можно всё упустить, а душа – вот она, рядом, и ничего не нужно, чтобы коснуться ее кончиками пальцев. Брут читал стихи не вставая, скорее пел, чем декламировал, покачивая тонким запястьем в такт; он вернулся из болот Германии живым, и отблески огня на его командирском браслете мешали забыть, что где-то бьются легионы, где-то ярость и кровь, но – боги мои, как всё это далеко! Так я думал, а беда уже готовила вторжение в мои итальянские ночи.
Прошло несколько пьяных, острых, ошеломительных дней, полных поэзии. Однажды после чтений, когда я показал отрывок из «Метаморфоз» (это были наброски) Мессала объявил меня повелителем пира. Среди гостей присутствовал некий Луперций Ванта, он явился позже всех. О нем говорили, что он уши и глаза императора. Был он бледен, худ, горбонос, со вздернутой губой и большими сонными глазами, а в ходе беседы имел дурную привычку презрительно вскидывать лицо. Уже налегли на десерт и вино, когда Ванта обратился ко мне в одуряющей палатинской манере:
– Назо, я слышал – ты жил в Греции и преуспел не только на божественной службе поэзии, но также и в битвах философии, что весьма нечасто среди нынешних поэтов.
– Боюсь, это не совсем так. Я обычный книжный червь. В Греции я собирал мифы.
– Не суть, ибо нет ничего глубже мифа. Видишь ли, меня очень занимает вопрос о происхождении добра и зла. Скажи мне как ученый: когда возникло представление о том и другом?
– Когда возникло человеческое тело, – сказал я.
– То есть ты считаешь, что было время, когда не было никаких тел?
– О да. Золотое поколение. Но это было так давно, что даже Гомер его не застал, – ответил я, и вдруг меня подхватило воображение. – Впрочем, великий слепец несомненно имел четкое представление о добре и зле. Думаю, в образе троянского коня Гомер изобразил некий мировой обман, тот самый, что поражает нас через органы чувств. Ум – это единственные ворота, через которые страдание вторгается в наши сердца.
– Получается, что Одиссей, по наущенью коего был создан фальшивый конь, есть противник великого духа и воплощение лжи? – изумился Ванта. – Признаться, я в затруднении. Вероятно, мой друг, ты запамятовал, что великий царь Латин приходится Одиссею родным сыном. Но даже не это меня смутило, а один вопрос: кто мы без ума? Варвары? Животные? Капуста на грядке?
Я сдержанно и как можно проще изложил свои взгляды. Ванта молчал с выражением чрезмерной задумчивости, даже скорби. Наконец он вопросил:
– Не считаешь ли ты, подобно грекам, что высшим злом для человека является страдание?
– Именно так я и считаю.
– Я понял тебя. Но из твоих слов получается, что божественный Юлий, который завоевал счастье для нас, претерпевая боль и страдание, да и сонмы прочих великих мужей, принявших муки во имя народа, – все они глупцы? И, более того, демоны зла?
Я замолчал, вспоминая доводы Леогена о том, что страдание – это лекарство, однако лучше не болеть. Пока я подбирал нужные слова, Ванта уже почувствовал себя на коне.
– Не знаю как ты, Назо, а я не считаю Цезаря безумцем! – выкрикнул он.
– Величие Цезаря свято, но все прочие имена пусты, – заметил небрежно Силан. – Все, что имеет название, смертно. Одно бессмертие имеет смысл, поскольку без него нет никакого счастья.
– Постой-ка, – возразил Ванта. – Даже если мы не боимся спутать собаку с ее хозяином, ибо и тот, и другой имеют имена, прежде, чем мы отречемся от нашего принцепса, ибо он тоже не безымянный, мы будем вынуждены признать, что есть какая-то магическая сила в именах. Об этом писали многие – и Пифагор, и даже Сулла.
– Пифагор, действительно, учил мудрости, – сказал Силан. – Но мудрость кончается там, где начинаются его цифры.
– Цифры Пифагора? А может, ноги Фортуны?! – Ванта заржал.
– Достаточно, друзья, – запротестовал Мессала. – Эдак мы скатимся до варваров. Думаю, Силан имел в виду нечто иное – то, что воля человека и богов должна быть едина, как это было в веке золотом, лучшем! Разве не к тому стремимся мы? Разве мы греки, которые хотели жить отдельно, каждый в своей деревне, и потому были сломлены нашей рукой? И хоть мои предки не были этруски, я вполне согласен с их наукой, и полагаю, что на все воля богов. Ну сами подумайте: как можно перечить воле бога? – Мессала сделал паузу, чтобы мы уточнили для себя, о каком боге он ведет речь. – По-моему, герой – тот, кто проник в замысел бога и стал его волей, не рабом, но слугой, преданным и расторопным. Слугой, которому и воли-то не надо, ведь хороший слуга является частичкой господина своего. Вот к чему стремиться надобно, друзья, – чтобы весь мир имел одну голову, одну волю, единую с волей богов!
Ванта приподнялся и воскликнул с таким подобострастием, что меня передернуло:
– О нет! Не дорожу я сим вином, приправленным елеем! Готов я воду пить и славить имя – Цезарь! Ты слышишь, Назо, терпкий аромат, витающий со звуком – Цезарь?..
– Мирра мне нравится больше, – признался я.
– Да ты скорее Ноздри, чем Нос!4 – Ванта хмыкнул и громко высморкался.
Я не стал разбирать его собачье имя и особенно когномен, произошедший от нечистого демона, который высасывал у мертвых воспоминания и кровь.5 И без того было горячо. – Довольно, пожалуй. В конце концов, здесь не форум, – с плохо скрытой досадой повелел Мессала. – Все мы знаем, что божественный Юлий не щадил себя ради общего блага и подарил нам то, на что неспособны даже боги. А сейчас давайте послушаем нашего дорогого Луперция Ванту – он сочинил прелестную поэму о войне летучих мышей и волков.
Мне хорошо запомнилась та ночь. Когда Ванта прекратил своёрычание, разговор зашел о Юлии Старшей, единственной дочери Августа. Она дожидалась смерти на острове в ссылке, а ее любовники покончили с собой – не по собственной, конечно, инициативе. Силан пожалел Юлию. Ее судьба была принуждением с юных лет, и когда она расцвела и нуждалась в любви, ее отдали за Тиберия, который ненавидел женщин, а Юлию особенно. Естественно, Юлия не отказывала своим фаворитам, как цветущая яблоня не отталкивает пчел. Силана говорил, что последний брак Юлии был с самого начала обречен, что это союз брошенных детей, политический инцест, – заключил он и сразу перешел к судьбе ее дочери – Юлии Младшей. Юлилла, так её звали друзья, была выдана за старого Лепида. «Я даже выразить не могу, какая это глупость! – говорил Силан. – Подумайте только – Лепид и Юлилла! Богиня и жаба!»
Такие разговоры были чистым самоубийством. Но я подумал, что Силан затеял игру в своем безоглядном стиле, что у принцепса могут быть какие-то мысли о будущем Юлиллы и Силана, совместном будущем. Эта идея выглядела не столь уж безумно. В комнате раздался смех, к Силану потянулись руки, его трепали по щеке, и пьяные аплодисменты разрядили опасения. Так мы полагали.
*
Три года назад, собираясь покинуть Ираклион, я произвёл тщательную ревизию. Все что у меня было – два старых костюма и один плащ, фиолетовая шелковая косоворотка – подарок французской подруги, толпа приятелей-поэтов и одна печальная книга, дружно отвергнутая десятком российских издательств. Я как бы умер; кроме этих вещей не было других доказательств моего бытия. Силан тут же привел место из древних законов, согласно которым расходы на похороны должны быть ограничены тремя саванами, одной пурпуровой туникой и десятком флейтистов, а причитания запрещены.
– Ещё там сказано: пусть мертвеца не сжигают в Риме, – сказал он. – Я знаю двоих мертвецов, к которым это относится.
– В священных книгах написано, что они исчезли. Но так, что никто не знал, что они умерли, – добавил я.
– К черту книжную мудрость! – расхохотался Силан. – В жизни все наоборот.
Возразить было нечем.
Итак, знакомьтесь: Децим Юний Силан, патриций из новых. Он родился в девятнадцатом году до нашей эры6, в тот же мартовский день, что мой брат и я. Грецин даже объявил нас родственниками, но все мы знали, насколько тщетны узы гороскопа. «Велико богатство! Одиннадцать двенадцатых отдаешь другим!» – фыркал Мессала.
Детские годы Силана прошли в поместье на юге. Во время гражданской войны его отец поддержал не того кандидата, и хотя Август его простил, старик на всякий случай отвез детей подальше от Форума. Пустые предосторожности. Децим отметил седьмое лето, когда император даровал старому Каю Силану звание патриция и заодно поинтересовался, где он прячет наследников прекрасного имени? В тот же год юный Децим вместе с братом и сестрой был водворен обратно в пенаты, в пышный и нескладный дом у трех Фортун.7
Отец и дядя Децима часто обедали в доме Августа – он любил возиться с белобрысыми, смышлеными детьми Кая Силана в мирные часы перед ужином. Как-то раз он разбирал арифметическую задачу с юным Децимом: нужно было сосчитать уцелевшее после битвы население дакийской деревни, зная, что всего там жили десять семей по три ребенка в каждой, отцы погибли, а старики не берутся в расчет. Ребенок, подавленный такой постановкой задачи, упорствовал в понимании, и тогда Август нарочито сурово приказал охране казнить пятьдесят рабов – двадцать женщин и тридцать детей и доставить их головы к ученику, поскольку воображение не помогло его рассудку. Децим тут же выкрикнул, что казнить надо всего лишь десять женщин, а количество детей оставить прежним. «Парень далеко пойдет по тропе адвокатуры», – под общий хохот заметил принцепс. «А как выйти на тропу Августа?» – полюбопытствовал Децим. Август подозвал префекта охраны и негромко приказал обезглавить четыре десятка рабов. Затем шепнул Дециму на ухо: «Ты правильно сделал, что отказался от умозрительности. Все они опасны, и взрослые, и дети, и рабы, и свободные. Но если свободного ещё можно сделать другом, то раба никогда, и остается только считать по головам». «Так пусть они будут свободны!» – выпалил Децим. «Это невозможно, – горько причмокнул Август. – Как ты станешь свободным, если не будет рабов?» «И в чем же разница между рабами Цезаря и его друзьями?» – спросил Децим. В этот миг, вдруг осознав, что Август не шутит и сейчас внесут окровавленный мешок, Децим ринулся вон и очнулся только на улице. С тех пор он ненавидел арифметику.
Познакомил нас общий друг, Мессалин. Это было в театре, и с моей стороны являло простую вежливость. Я был намного старше, но мы общались на равных. Силан был похож на моего брата. Он дерзал, а не дерзил; ничего общего с плебейской наглостью. Обыкновенно мягкий в житейских вопросах, он разгорался, когда речь заходила об идеях, и рвался напрямую, как боевой слон. Я одобрял его подношения музам, но больше восхищения он вызывал сочувствие. Было ясно, что он один из легиона забытых Фортуной талантов, которым дано познать смирение или тоску. Каждый год они проходили перед моими глазами, их было так много, что я научился распознавать их по одному стихотворению, а потом даже по взгляду. Такие люди обычно спивались, не понимая, за что им выпала такая несправедливость – существовать только половиной души. Боги свидетели: никто не виноват. Фортуна – это чистая игра.
Впрочем, Силану было чем заняться – его ждала карьера в сенате. Для начала нужно было отличиться на армейской службе, и в пятнадцать лет он стал учеником знаменитого фехтовальщика и кулачного бойца Канидия Бестии. Тот поставлял Риму неубиваемых бойцов. Однажды в Испании Бестию вызвали на бой вождь местного племени и его брат. Командир легиона запретил поединок, но тот все равно заколол обоих испанцев. За нарушение приказа его, конечно, погнали из армии вон, но старый Силан уважал Бестию. «Он сделает тебя настоящим воином, потом я вправлю тебе мозги и сделаю великим вождем», – так напутствовал отец своёчадо.
И чадо не жалело сил. Панкратион, фехтование, бег, борьба, – все до кровавого пота. На зиму Бестия отправлял воспитанника в дикие Альпы. Силан проводил целые дни на охоте, ночевал в снегу, и умудрялся сочинять стихи, описывая радости зимнего костра, на котором жарится мясо и греется вино. Чтобы закрепить науку, домой он возвращался в богатой одежде, на старой кляче медлительно цокая по ночным дорогам в сопровождении двух бывших гладиаторов; они следом тянулись на мулах. К услугам этой смертоносной троицы были банды ветеранов, разорившихся крестьян, беглых рабов и прочего сброда. Затем его отправили служить в Паннонию в составе Девятого Испанского легиона. Под своё командование он получил всю конницу.
Название форта Силан не помнит, по его словам, неподалеку там били горячие ключи8. Предшественник Силана погиб; потребовалось несколько ночей, чтобы привыкнуть к его кровати.
Силану нравилось в армии. После школы Бестии лагерная жизнь казалась праздником. Скрип сапог и портупеи, багряный плащ и грива на шлеме – именно таким он представлял себя в войсках. Весь его вид был последним криком армейской моды, от пошлых пузатых амуров на застёжке плаща до длинного сарматского меча, сделанного по его личному заказу. Проходя тротуарами лагеря, Силан небрежно приволакивал серебряный кончик поножей, и очень скоро ему начали подражать. Его ординарцем был шустрый парень из Неаполя, сообразительный и в то же время туповатый, как это часто бывает. Силан пытался обучить его декламации, но тот не запомнил ни строчки, зато гениально шевелил ушами и проносил для господина послания юных дев; амулеты заменяли им любовные записки.
Впрочем, обстановка не давала расслабиться. Каждую неделю в караулку приносили трупы дозорных, конница бросалась по горячим следам, но кого можно было найти в проклятых дебрях? Миновала зима; на протяжении марта в лагерь стягивались когорты из соседних гарнизонов. Эти воины и кавалерия Силана вошли в состав экспедиционного корпуса, три тысячи пехоты и двести всадников. В апрельские ноны9 войска форсировали Истр10.
За рекой простёрлась пустота – ни врагов, ни друзей. Деревни брошены, проводники сбежали, купцы ничего не знали об этих землях. Поймали только одного козопаса, но тот был так испуган или туп, что не мог связать пары слов. Силан надеялся, что взбешённые даки выйдут в решительный бой, но за пару месяцев – только четыре мелкие стычки. На военном совете решили не торопиться вглубь страны. Главная задача – разведка, и туманным июньским утром кавалерия Силана двинулась в дебри Трансильвании.
Силан никогда не рассказывал об этом походе. По словам его командира, Марка Виниция, отряд попал в засаду. Тысяча даков поджидала его в заросшем глубоком овраге. Из двухсот кавалеристов уцелел один Силан. Он вернулся через неделю с застывшим, будто парализованным лицом. Медики насчитали девять ран на его теле. Кроме того, они отметили его хроническую бессонницу – он не спал совсем, и эта особенность уже никогда не покинет его. Силана оправдали и даже наградили. Войска отправились на зимние квартиры.
Силан хотел умереть. Дважды вскрывал себе вены, и дважды его спасали. По общему мнению, он не мог простить себе гибель солдат, но даже Цезарь допускал опасные ошибки, из которых и скроена воинская слава. Виниций успокаивал Силана, объяснял, что даки вели его отряд от самых ворот, что погибшие спасли весь корпус. Все отнеслись к этой неудаче с пониманием, кроме старшего доктора легиона, который полагал, что Силан опасен, что он стал жертвой тёмного волшебства. Доктор предложил доставить его на суд специальной коллегии, собранной из его земляков, тарентинцев. Предложение было отвергнуто. Смешно даже подумать, чтобы коллегия провинциальных магов решала судьбу римского гражданина, который запросто ходил в гости к императору. Децим подал в отставку и, сославшись на здоровье, вернулся в Рим.
Столица поглотила его. Он избавился от лагерной привычки клясться Геркулесом, носил тоги всех мыслимых оттенков и отделок, переодеваясь по несколько раз на дню. Он отпустил кудри и дал волю остроумию, пальцы унизал перстнями, а борцовский торс укрыл под шелком драпировок, собирая складки мелко и густо, на лидийский манер. Утром он выливал на себя ведро ледяной воды и, облачившись, отправлялся по делам. После завтрака шёл на Форум, чтобы узнать новости и при случае подраться за какого-нибудь кандидата. Затем с толпой друзей отправлялся обедать, чаще всего прямиком в бани. Иногда устраивал прогулки на Аппиевой дороге. Его экипажи, подобранные с ненавязчивой тщательностью, никогда не оставались без напомаженных завитых спутниц. Бывало, что в кольце друзей-актёров он вваливался в модные салоны и платил за всех, или звереющий поток уносил его на игры, и вечером, в толпе, он врывался в публичные дома, которыми кишел район Цирка. Слуги приносили его домой мертвецки пьяного, покрытого ссадинами, залитого вином. Но – «Да здравствует Силан! Идущие напиться приветствуют тебя!» – кричали поутру актёры, и всё начиналось по новой. Он был душой компании, несмотря на то, что ходить на вечеринки с его участием было рискованно. Вокруг него всегда кипели свары. В лучшем случае спорщики напивались до изнеможения, чаще дрались до смерти, но рядом с Силаном я чувствовал восхитительную ярость.
Внезапно Силан отправился в Египет. В общине при храме Амона он выбрил себе голову, надел рубище. В тесной келье, куда его отвели, можно было только сидеть – на соломенной циновке поверх квадратного камня, и лежать, опершись ногами в стену. Чтобы с непривычки не затекали ноги, разрешено было стоять и прыгать на месте. Неделю он провёл взаперти. Хотя дверь заменял тростниковый полог, старшие монахи никого не выпускали во двор. Питался только водой из колодца, к которому прибегал ночью тайком, чтобы не попасть под удары палками. Утром десятого дня он схватил старшего монаха и, прокусив ему шею, высосал кровь. Уже в Александрии, спешно купив корабль для бегства, он узнал, что монах скончался.
В Городе он стал домоседом. Построил усадьбу на Авентине – там окончательно вырезали бандитов, которые почти сто лет контролировали тибрские доки, и в район потянулись богатые люди.
В доме Силана не было скучно. Слуги – сплошной паноптикум. Чего стоил один эконом, единственный раб в его обширном доме, знаток пословиц и мудрейших изречений. Назначив этого знатока судьей среди слуг, он ожидал от него чудеса терпимости, но просчитался. «Каждого человека можно заподозрить в чем угодно», – повторял теперь эконом. Своих подчиненных он держал на коротком поводке, не хуже принцепса. Силан подарил его мне, когда управляющий на вилле жены в Сегесте пожелал удалиться к себе на родину, в Галлию. Несомненно, эконом сошел с ума. Я не дал ему свободу только потому, что на привязи он был безопасен.
*
Последний год в Риме начался с того, что старого Камилла избрали в консулы. Его дочь была моей второй женой. Высокая, мне по плечи, тонкогубая, с большими бёдрами и крохотной грудью, она гордо несла своё измождённое лицо, отвлекающее внимание от ее сочной плоти, делиться которой она не хотела ни с кем. Наше семейное благополучие скоро стало формальностью – ни тепла, ни любви, ни интимности. Все её слова были речениями древних героинь, а единственной слабостью – пошлая привычка предаваться воспоминаниям о своих предках. Обстановка унизительной бедности, в которой выросла Камилла (её славный род катился в долговую яму), подняла с её души всю гниль аристократов: крайнее бездушие, извращённую гордость. Жизнь Камиллы от начала до конца была обрядом, точной иллюстрацией детских воспитательных легенд. Впрочем, когда моё отвращение к ней стало неприлично искренним, пафосу героинь она предпочла банальную подлость – убила нашего нерождённого мальчика. После развода она вышла замуж за армейского интенданта, но старый Камилл ничего никому не прощал.
Как-то раз в начале мая, в первый день праздника Доброй богини, когда старухи очищали Город от присутствия мужчин, собрались у меня в Садах на этрусском ужине. Было всего двенадцать человек, только самые близкие друзья с женами или их заместительницами. Силан и Вейя были героями вечера. Нас ожидал сюрприз – маленькое представление по мотивам одного эпизода из Вергилия. В комнату влетели двенадцать голубей, и Силан предложил погадать по их полёту. Вейя руководила прорицаниями. Она торжественно двигалась по кругу, декламируя напыщенные, доведённые до полного идиотизма пророчества. Котта подавился фигой, Помпей рыдал в подушки, жена Грецина лупила его по спине, пока сама не задохнулась от хохота, и только Силан держался сообразно церемониалу, с дурацкой надменностью вскинув бровь. Всё было нашей заготовкой – и голубой навес, разделённый на шестнадцать секторов, по которым гадали жрецы, и узелки с подарками для гостей, привязанные к лапам птиц. Вечер мог завершиться отменно, если бы не одна блуждающая метафора. Задетый успехом подруги, отдавшейся танцу со всею страстью, Силан, уже изрядно пьяный, назвал ее бурной богиней и сопроводил замечание такими жестами, что всем стало неловко. Вейя побледнела, швырнула в него жреческий посох и выбежала вон. Я бросился следом. На полу в атрии лежал ее изумрудный браслет.
Рано поутру я навестил Силана. Задумчивый с похмелья, он сообщил, что у него с Вейей, должно быть, всё кончено. Я отправился к ней. По словам привратника, ещё до рассвета она отбыла на Фуцинское озеро к своей госпоже, Юлии Младшей. Её экипаж состоял из носилок, так что уйти далеко она не успела. Я вернулся домой, запряг коней и со слугой помчался на Тибуртинскую дорогу.
Мы стегали встречную толпу, спешившую на праздник, давили копытами торговок, но продвинулись чуть. Наконец вышли на простор и погнали галопом, и если бы я сломал себе шею, это стоило бы того: любовь в семнадцать лет – это вопрос жизни и смерти, но когда вам пятьдесят, то это больше, чем жизнь и смерть. Мы ворвались в Тибур, пролетели его насквозь, и тут я понял, что поиски тщетны. Вернулся в Рим, через толпу пробился к дому Вейи, но привратника, конечно, не застал. Её слуги были напуганы. Я стоял перед ними грязный, мокрый с ног до головы, вся улица уже судачит обо мне, а завтра будет говорить весь Город, но поздно отступать. Я сбил на пол загородившего путь конюха, ворвался в дом и работая плетью пробился в кухню, где под медным чаном схоронился управляющий. Он признался: госпожа направилась на берег Аверна, где недавно купила себе дом, и велела передать мужчине, который явится утром, что уехала к Юлии Младшей. Видимо, она ждала Силана.

