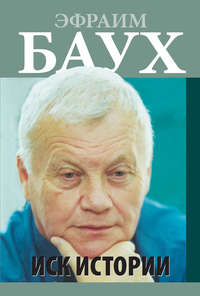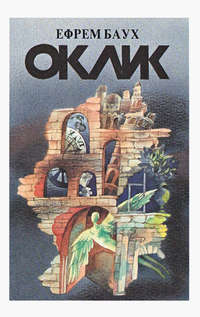Полная версия
Пустыня внемлет Богу. Роман о пророке Моисее
А хрупкое исчисление лун переживет тысячелетия.
5. Синай – Эверест временИсход – не просто переход.
Это – жизнь-странствие, кочевье души иудейской.
Жизнь по времени – солнечному, водяному, песочному.
Огромные песочные часы: пустыня.
Над временем Исхода работали часовщики Вечности.
Каменные часы пустыни.
Пространство Исхода как творения – круг гончара: огромные ладони пустыни.
Слуховой настрой Исхода: пустыня внемлет Богу.
Топография: истинный исход всегда меридионален.
Быстрая смена земель, впадин и гор, климатов, настроений…
Свидетель Исхода – Вечный жид.
Часть первая
Лавка древности
Всех человеков дело на тончайшей подвешено нити…
ОвидийВ этом потерянном поколении как в зародыше таились гены всех типов сынов человеческих, затем действовавших в истории.
Они составляли как бы первый ряд, неповторимый в своем роде, ибо не просто изучали дымящееся от внутреннего горения, складывающееся на глазах Пятикнижие Моисея.
Это было первое и последнее поколение, которое жило в собственной истории.
Не было дистанции, делающей историю Историей – явление само по себе невероятное, даже страшное: некое проживание в мире без тени – История еще не успела отбросить тень от их жизни, и это означало – жить на ослепительно раскаленном кратере извергающегося вулкана.
Не текст, а – огненный поток, существование внутри которого было и дыханием, и записью одновременно.
7. Присутствие неопровержимой реальности жизниРазве Эйнштейн навязал миру свою теорию?
Самая великая и самая парадоксальная для человеческого сознания, эта теория наиболее близка к мысли о Боге.
Так и явление Бога на Синае не навязано миру, а есть его, мира, внутренняя сущность.
Но, боясь открывшейся бездны, человек пригибается и готов все время сидеть на корточках.
Моисей сумел в отличие от многих других, канувших в забвение, создать из самостоятельного визионерского опыта альтернативную реальность, которая уже потому от Бога, что стала по сей день неотменимой основой духовного мироздания человечества.
Жажда раскаяния, жажда обнаружить корни своих прегрешений тянет к героям типа Моисея, которых в поколении моем не было. Именно сила этой жажды и рождает его образ и понимание мною собственного поколения.
Он писал дневник великих событий «лицом к Лицу». Но из всей совокупности фрагментов, сочетаний, импровизаций и постулатов следует такое единство мыслей и действия, возникает личность, столь могучая и неповторимая, что мы невольно чувствуем себя в присутствии неопровержимой реальности жизни.
На горе Нево
1Он поднимался на гору Нево один.
Он видел себя со стороны.
Всегда – со стороны: признак ненавязчивого, но неотступного через всю жизнь одиночества.
В слуховых извилинах бьющейся в силках птицей все еще метался собственный его голос поверх тысяч и тысяч голов в сумеречной долине, ушедшей вниз, как уходит из-под ног твердь, когда течение вод опрокидывает и заливает с головой, – слова гнева и назидания, за которыми гнездился остекленевший ужас понимания, что это последние озвучиваемые его горлом слова. Так повелел Он:
«Взойди на эту гору перевалов, гору Нево, которая в земле Моава, на пороге Иерихона, окинь взглядом страну Ханаан, которую Я даю сынам Израиля во владение; и умри…»
Острейшее ощущение ужаса, которое – теперь он был в этом уверен – еще до рождения передалось ему в чреве матери, дрожащей от праха перед повелением фараона бросать еврейских младенцев в Иор[1], а после рождения колыхало смертельной сладостью на водах в легкой, как гибель, корзинке из тростника, – знакомой тошнотой ударило под сердце.
О, как он это чувствовал: он родился под звездой насильственной смерти.
Существование его всегда шло впритирку с несуществованием: есть ли что-либо мерзостнее убийства беспомощного младенца, страхи, который испытывает беременная мать, передавая его существу в чреве ее? Итро открыл ему, насколько он подвергался опасности до рождения да и после, при дворе фараона. Затем – убийство египтянина, бегство в пустыню, исход.
И только в эти мгновения, на Нево, не существовало никакой насильственной угрозы. Но Ангел ждал его. И в этом был весь ужас оставленности.
Давно, в годы пустыни, в редкие, глубинные мгновения жизни, он скорее почувствовал, чем понял: ужас этот не от беспомощности.
Суть его – в безопорности.
В абсолютной, необратимой оставленности.
Затем пришла опора. В Нём.
Но воды многие, несущие через жизнь, иссякли – Он повелел: «умри…»
Наученный жить с этим ужасом, он нашел в себе силы записать в Книге именно так, ибо начертанное с Его повеления становилось законом.
Каково ему было писать о себе как о постороннем не в первый, но в последний раз:
«Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась».
Но только он, Моисей, слышал то личное, ближе ему собственной сонной жилы:
«Я избрал тебя, Моисей, потому что в тебе впервые после сотворения человека уловил вне Меня с ясностью, могущей потрясти столпы мира, истинное понимание того, что за тебя приняли решение – привести тебя в жить и увести из нее.
Это понимание – чистейшее в редкие мгновения жизни звучание Абсолюта.
Голос тонкого безмолвия.
Это понимание – на миг размыкание удушливого кокона земной телесной жизни…»
И это был самый корень ужаса, мучивший его долгие годы: никто не спрашивал у него права привести его в эту жизнь. Ужиться с этим можно было единственным образом – принимая эту жизнь в дар, а не как насилие над ним или предназначенность неким ему непонятным и потому, быть может, страшным целям.
В какие-то мгновения, когда в нем все восставало против этого насильственно навязанного дара, он ощущал ужас надвигающегося безумия.
Оказывается, самое тяжкое в этом мире – выдержать дар навязанной тебе жизни.
2Он поднимался на гору Нево один.
Он знал: они где-то притаились там, пониже. Они объясняли это себе чувством долга: мол, им следует охранять его.
Он знал, Иешуа готов жизнь отдать за него, но и в нем любопытство смертного, хоть одним глазком приглядывать – как же это, великий вождь, который с Ним был лицом к Лицу, сидит один, беспомощный, в ожидании смерти, заброшенный, как вот приблудный пес, который неизвестно как очутился на этих высотах и бежит от него, Моисея, поджав хвост, чуя запах приближающейся смерти.
Смертное любопытство, кажется, растворено в самой атмосфере этих мгновений.
А может, все это лишь его домыслы и окружающие даже обрадовались приказанию оставить его в одиночестве.
И теперь он подобен покойнику после погребения. Каждый исполнил свой долг: кинул в него комом земли. По словам брата Аарона, в присутствии которого Моисей острее всего ощущал одиночество и которого так сейчас не хватало, покойник особенно тяжко переживает первые минуты после погребения: еще миг назад он слышал над собой, где-то в небе, плач, причитания, говор, стук – и все это относилось только к нему одному. Но вот все ушли, и его охватывает абсолютное отчаяние, воистину смертельное одиночество. Не крикнуть от ужаса, не пошевелиться, не вздохнуть. И уже ощущается начало растворения во времени, в сознании знавших его.
Все это обозначилось настолько остро, что показалось – Аарон окликнул его.
Невольно оглянулся. Но вокруг была голая каменистая пустошь, ощутимо втягивающая, как в воронку, в дремотное состояние.
Может, он уже и вправду покойник? Моисей ощупал себя. Сердце Пилось спокойно. При каждом вдохе свежесть горного воздуха растекалась по всему телу. Почему бы просто не встать и не вернуться ВНИЗ, К ЛЮДЯМ?
Но знал, что не сделает этого. Знал по опыту всей своей жизни – Гот слов на ветер не бросает:
«…Окинь взглядом страну Ханаан… Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь…»
Именно потому с таким напряжением вглядывается он в округлые, как овечьи спины, холмы за Мертвым морем, в горстку скудных домиков Иерихона – «городка запахов» всех семи смертных грехов, обнесенного столь же скудной с этих высот стеной, которую Иешуа предстоит разрушить. Грешен этот город. Участь его предрешена. Но чем она хуже участи его, Моисея, в эти последние часы его жизни?
На уровне глаз его – солнце, повисшее в мареве месяца Адар. Оно кажется недвижным, замершим, хотя совсем скоро исчезнет там, на западе, в Великом море.
Кажется, до смерти еще – вечность.
Восход солнца застает человека сразу и врасплох, ослепительно и широко. И только в последние мгновения заката видишь, как быстро оно заходит за горизонт.
В долине уже темно, множество огней. Доносит ли ветер из низин плач но нему или сам стонет в расселинах скал?
Здесь, на горе, еще пепельно-отрешенный свет закатившегося солнца. Время, когда для людей – поздно, а для Него – рано. В этом как бы ничейном времени Моисей оставался с самим собой, и в нем начинало пробуждаться чувство раскаяния, но являлся Он – внезапно, как перебой сердца, и прерывал это чувство.
Теперь Он уже не явится – пришло время идти до конца, предъявлять окончательный счет своей душе.
Оставленный людьми и Им, Моисей в безжалостном свете, впервые, видел жесткость своих поучений, от которых сам страдал. В эти мгновения он не способен был понять, где брал силы – за пределом возможного – решать судьбы целого народа. За этим мог стоять только Он.
3Беспамятство и есть смерть.
Не потому ли как знак ее приближения – неистовое желание – жажда – припомнить всю свою жизнь, словно в этом – надежда на преодоление смерти.
В эти последние часы, оставшись наедине с собой, твердо зная, что в Землю обетованную ему не войти, он чувствовал, как его накрывает горячая волна сомнений, колебаний, всю жизнь скрываемых от самого себя, волна всепоглощающего чувства раскаяния.
В эти последние часы внезапно приблизились к нему гигантские пирамиды Мемфиса, тогда недоступные, сверхчеловеческие, а теперь дающие странную надежду и слабое утешение, что не все бренно в этом мире, что они все же некие ступени – пусть по лестнице заблуждений, ведущей в мир мертвых, в тупик, но все же – к Нему, как еще один подступ – надежда на смягчение Его сурового и неотменимого приговора.
А еще, поверх всего, в эти мгновения самым прекрасным высвечивалась не встреча «лицом к Лицу», не все невероятные события его жизни, о которых он писал в Книге, а внезапно пришедшее из подсознания, вернее из досознания, ощущение колыхания в корзинке на водах Нора, сладостный покой в материнских водах, на волоске от гибели.
Слишком много он прожил в мужском обществе, считая женщин существами второстепенными, но иногда вскакивал со сна, ощущая порыв, дуновение непонятного счастья – ему мерещилось какое-то случайное место в пустыне, болтовня, бездумность, нежность, как озерцо воды, светящееся лицом женщины, сладость бродяжничества и безответственности.
И вскакивал он не со сна, а как бы тянулся всем существом за ускользающим ощущением счастья, как стараются поймать бесстрашно приближающуюся к тебе птицу, которая в миг прикосновения улетает, тает облаткой, облаком, веянием.
Чувство обморочного колыхания перед исчезновением в вечности гнило подобно пульсации клейкой капельки жизни, из которой рождаются племена и народы.
Странен мгновенный высверк из допамяти, из дородовых глубин, яркий, горький выброс из досознания в миг замыкания круга жизни, абсолютного возврата к Нему – мгновение, равно отстоящее от зарождения и умирания. Некое несуществование на грани исчезновения и все же присутствия. Пожизненное странствие, внезапно в первый и последний раз (ибо истекло время раскрыть кому-либо живому эту тайну) столь отчетливо вспыхнувшее в сознании, истончающемся к исходу жизни.
Первый инстинкт, проклюнувшийся еще до возникновения, – окружающая бездна, покачивающая тебя как бы на обломке скорлупы, не грозит гибелью, ибо легкость твоя равна легкости пространства и времени.
Но они-то и не касаются тебя, ибо для них тебя еще нет, тебя для себя еще нет – только для Него.
Страшиться надо было не бездны, каплей которой ты был. Страшиться надо было того, что так и останешься этой каплей и не коснется Он тебя лучом своим – выпадешь за ненадобностью в осадок, в небытие, не состоишься.
И – как вспышка – радость возникновения от боли, нанесенной ударом клюва, как однажды в пустыне буря гнала птицу, она ударилась о грудь Моисея, от испуга клюнула, и понесло ее дальше – в пространство и тьму.
Ощущение изначалья абсолютно лишено было образа и выражения, ибо подразумевалось до формы, до жизни – но это было.
В эти мгновения невероятие открывшегося проклюнулось и в языке Его, которым писалась Книга, в гнезде слов: рэхэм – чрево, рахум – милосердный, рахмана – Он да будет благословен, рахам – остроклювый хищник.
Собственное отсутствие восходило вечностью.
Собственное отсутствие не боялось воды, ибо вода была его стихией, но оно уже искало посредников между своим ничто и колыханием мировых вод.
Страх и безмятежность были колыбелью этого отсутствия, уверенность которого в будущей своей безопасности охранял пульс матери, гуляющей вдоль великих вод и ощущающей их тягу в себе.
Воды были сверху и снизу, небом и землей, да и само отсутствие было водой, пусть чуточку более клейкой.
И сейчас это обнадеживающее отсутствие, напрочь забытое в суете жизни, пришло внезапно, отчетливо, успокаивающе знакомо – через всю жизнь – из досознания, – залило с головой, и он закрыл глаза.
Тьма за веками была такой бархатно-желанной, очищенной, манила, но не давила, а почтительно замерла в ожидании, полная одновременно горячо сжимающей и освежающей тяги – как течение реки, которое подобно чреву матери обволакивает тебя, может спасти или утопить.
Тьма внешняя была какой-то белесо выхолощенной, клочковатой, угнетала отсутствием цельности, вызывала страх своей стискивающей горло скудостью.
Сколько раз в течение жизни он задыхался во сне, в глубину которого его проталкивала какая-то невидимая, но убийственная сила, проталкивала из тьмы и бездыханности в свет и удушье.
Это могло казаться воспоминанием, если бы не грозило столь ощутимой гибелью.
Древний безначальный ужас заполнял его только сделавшее первый вздох тельце в тот миг, когда внезапно из тесно облекавшей его полости он был выброшен в несоизмеримую, огромную, проваливающуюся куда-то по обе его стороны пустоту.
В какие бездны сознания его ни втягивало время, на какие края небесного круга он ни возносился, наклоняясь над миром, одна истина стерегла его тенью: жизнь подобна мгновению, сколько бы ты ни жил, у смерти же в запасе вечность.
Врата, колодцы, бездны смерти всегда рядом и всегда распахнуты настежь.
Вход в жизнь меньше отверстия игольного ушка.
Мгновенная легкость исчезновения превышает все вместе взятые возможности вхождения в жизнь.
Но она оживает в голосах, звуках, шуме вод, и рассказы покойной сестры Мириам не только возвращают живое ее присутствие, но и присутствие всех тех, которые окружали младенца, всплескивали руками, говорили, смеялись, плакали, и это были только женщины – и женская стихия в ее слиянии с младенчеством и материнством, побеждающая все фараоновы ужасы, его указы об утоплении младенцев, – все это нахлынуло с такой силой, будто совершалось тайно, но рядом, и младенец косвенно присутствовал при этом, и теперь это вернулось реальностью, которая таилась в подсознании всю жизнь и вдруг раскрылась, а скорее, обрушилась невыносимой тяжестью и еще одним неотвратимым знаком завтрашнего ухода.
Глава первая
Воды многие
1. Непробужденность как полнота жизни
Воды были сверху и снизу, небом и землей.
Само отсутствие было водой.
В длящийся миг наличествует присутствие, но и оно размыто, текуче и безопорно.
Воды многие – со всех сторон: спасающие и грозящие удушением.
После длящейся толчками и болью тьмы – первая фиксация: настороженность и тревога в звуках, которые потом обернутся голосами женщин, мягкими, льющимися водой из ковша.
Абсолютная беспомощность – равная уверенности в такой же абсолютной безопасности.
Сладостные растворение, распластанность и покой охраняются певучим шорохом тростникового хора, младенческим постаныванием – как бы со сна – ветра, ровным запредельным напевом великих проточных вод, который может улавливать лишь неустоявшийся, настроенный на небесные эмпиреи слух младенца на пути к грубому бурелому земных звуков.
Нет верха. Нет низа.
Дезориентация как форма существования.
Непробужденность как истинная – в первый и последний раз – полнота жизни.
Непробужденность, текущая молоком и медом. Неутолимая жажда этой непробужденности и сладостной размытости.
Покачивающая легкость существования.
Прикосновение – это все, льнущее водой, воздухом, теплом и прохладой. Лишь потом обретает мягкость ладоней и губ женщин, толпящихся у входа в жизнь, вливается струйкой молока и меда, обретает упругость соска и груди, все четче определяясь покоем и умиротворением, надежностью, голубизной, тусклой, как непротертый жемчуг, и солнечным светом.
Слепящие озерца женской ласковости излучают такую силу бескорыстного приятия, что оно растворяет сам женский лик – глаза, губы, очертания щек.
Певучи голоса, но различны звуки при вливании струйки молока и меда и при покачивании, погружающем в сон. Оба наречия непонятны, уловима лишь их непохожесть. (Проста разгадка этой волнующей изначально тайны бытия: укачивает мать, а кормилица – из женщин– евреек.)
Время не выделяет момента выхода из материнского лона, и в нем длится безмятежное проживание на водах или в водах чрева, продолжение плавания, как в мини-ковчеге (из корней этого знания и ощущения родится описание Ноева ковчега, ядра жизни среди всеобщей гибели, проступят намеки тайны Сотворения мира, законов перехода из одной стихии в другую, когда вода – это сгустившееся небо, а воздух – обернувшаяся паром вода).
А пока время сладостно и беспредельно, и такое чувство всепоглощающей безопасности он уже не испытает никогда за всю свою долгую жизнь.
2. Око: сладкая улыбка и угроза
Первое движение – от испуга: могу исчезнуть.
Пространство обтекает, втягивает, кружит голову, заливает первые проблески сознания. Единственное желание: зацепиться за что-либо, найти точку опоры.
Первый толчок: стоишь на качающихся ножках, испытывая страстное желание вернуться в непробужденность, отдаться сладкой стихии сна, лечь на спинку, свернуться бочком. Но кто-то невидимый упорно ставит на ноги. Окружающий мир словно бы в знак солидарности и поддержки качается вместе с тобой, опрокидывается вместе с тобой, лицом вниз. Так – хаосом лоз, ветвей, лиц, деревьев, дворцов, опрокинутым в зеркало вод, он закладывается в предсознание.
Проснувшись, продолжаешь делать вид, что спишь. В пробуждающемся сознании первая дилемма: притворишься спящим – не получишь молока и меда; раскроешь глаза – поставят на ноги.
Сильнейшее потрясение: вместо солнечно размытого, лучащегося абсолютным бескорыстием лика впервые и резко в поле зрения вдвигается глаз. Око. Оно огромно, ибо его не с чем сравнить. Оно – в окружении дряхлых, пахнущих чем-то пугающе мертвым складок, таящих сладкую улыбку, но в ней подозрительность и угроза. Вместе с тошнотворным страхом, пришедшим откуда-то из околоплодных вод, от пуповины, соединявшей его с матерью, переливающей в него ее страх, приходит неодолимое желание – сбежать от этого, как ныне кажется, вечно следившего за тобой ока.
Но как?
Отсюда – первая мысль: вот же, у меня руки – заслониться от ока. Открыть дверь. У меня – ноги: бежать. С этих мгновений четко и прочно ощущение собственного малого тела, отделенного от распластанного, непробужденного, сладко заглатывающего пространства.
Новое чувство неудержимой жажды движения оставляет за своим пределом все окружающее в деталях пространство. Призрачны уймы людей, стоящие и движущиеся в дворцовых стенах. Никакого желания видеть, кто рядом, но всегда невидимый направляет его и в конце концов возвращает в его комнату.
Позднее он узнает, что дворцовые врачи, мучимые встревоженной матерью, ломали головы над его гипертрофированной сонливостью и расслабленностью, считая это некой формой летаргии, которая, по их просвещенному мнению, и должна была смениться гипердинамичным стремлением к бегу и бегству. Мать его не очень-то верила врачам и жрецам. Она и уговорила самого деда, наместника Амона-Ра на земле, взглянуть божественным оком своим на бледно распростертых) в долгом сне внука. Результаты сказались незамедлительно: внук встал на ножки и с тех пор проявлял чудеса изобретательности в умении бежать и прятаться.
В дворце толклась всегда уйма народа, но он вокруг себя ощущал некую почтительную пустоту. Он чувствовал, что мать любит его больше всех. Быть может, потому что он был смышленее всех и симпатичнее, а быть может, из жалости, ведь он страдал косноязычием, и значит, путь к высотам власти, где больше всего ценилось гладкоязычие и курение фимиама, ему был заказан.
Косноязычие связано у него с внезапным ожогом, болью, чернотой в глазах и сверкнувшим в этой черноте огненным ликом, вознесшимся вихрем из медово-молочной размытости, с тех пор и на всю жизнь почтительно дремлющей поодаль и охраняющей его живое присутствие. Вихрь толкнул его под руку, и горячая головешка обожгла ему язык.
3. Пес по твою душу: пустыня
Жрецы-лекари считали, что излечить его от всех, как они полагали, болезненных отклонений можно, заменив ему имя или сменив комнату проживания и окружающие его вещи. Мать Бития, давшая ему имя Месу (ибо извлекла его из воды), и слышать этого не хотела.
До того момента вещи в его комнате существовали как бы вне самих себя. Он спал на кровати, не замечая четырех ее ножек, завершающихся вырезанными из дерева львиными лапами. Он ел, не замечая инкрустированного полудрагоценными камнями по меди столика, ни тарелки из алебастра, и пил, когда одолевала жажда, не ощущая тяжелой на вес чаши из горного хрусталя. Купание ему очень нравилось, руки невидимого существа растирали его ароматными жидкостями.
Но тут перед ним развернулся целый спектакль. Во-первых, все эти призрачные тени, скользящие, подносящие и уносящие, неожиданно ожили, и началась настоящая свара, воистину звездный час месяцами молчащих существ.
Вот они, толпятся в его комнате.
Отчаянно жестикулируют, выясняя главным образом, кто старше в подаче команд, как тащить и сдвигать, что первым делом, а что последним, кто опытнее, чей начальник влиятельней.
Ничего не понимающий ребенок с каким-то тайным живым наслаждением вслушивается в эту перебранку.
Но особенно его потрясает то, что он впервые видит уйму вещей, извлекаемых из его комнаты, отделенных друг от друга и потому выглядящих гораздо крупнее. Непонятно, как они так незаметно уживались в комнате, которая ему казалась почти пустой. Привычное кресло со спинкой и подлокотниками, которое так удобно облекало его, внезапно выныривает, блестя чеканкой по золоту и тисненой кожей, пугая головами соколов, завершающими подлокотники. Из-под кровати вынырнули скамеечки. Выносят шкафы, также инкрустированные снизу доверху. Одежды немного. Ведь малыши ходят почти нагишом. Ожерелье и набедренная повязка ощущаются частью тела.
Он помнит, как в новом месте его мучит стеснение, сжатие – стенами, замкнутым пространством темных комнат, коридоров с небольшими окошками ближе к потолку – из-за постоянной жары. И он рвется через анфилады комнат, бежит, в надежде дойти до конца этих стен и колонн, вырваться за их пределы, пытается в разных местах выглядывать в окна – дворцы идут беспрерывно, бесконечной чередой. Но стоит им оборваться, как они мгновенно сворачиваются в раковину отлетающего шагами пространства, куда ему запрещено ступать.
Дворцы в Верхнем Египте бесконечны, как мир, – залы, проходы, переходы, аркады, комнаты, но в любой точке, стоит выглянуть в окно – и мгновенно тут как тут, вдалеке, как пес по твою душу, лежащий плашмя на собственных лапах и бдительно следящий за тобой, – пустыня цвета нильской воды.
Мгновенный переход городского организма с фонтанами, журчащими каскадами, дворцами, массой гуляющей в ночи после жаркого дня публики, к нагой пустыне, так странно светящейся тусклой латунью под луной, ударяет в душу внезапным страхом, но и невероятной по мощи энергией жизни.