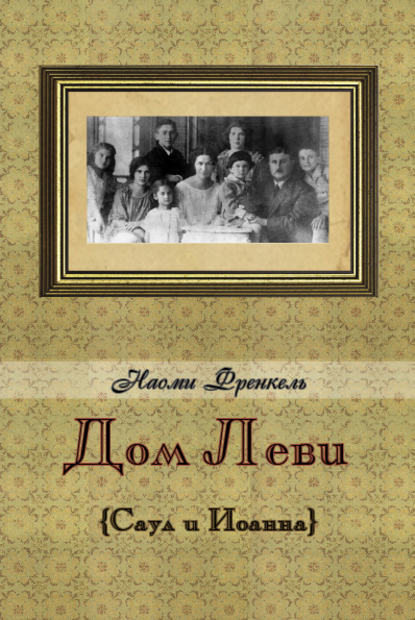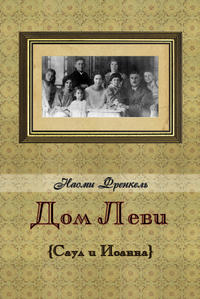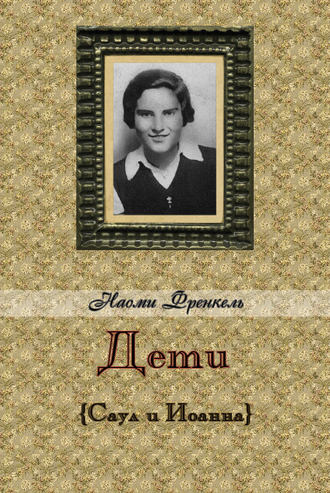
Полная версия
Дети
– Нет, – осторожно стряхивает Александр пепел с сигары, – ни в коем случае! Не дай вам Бог стать нацистским пропагандистом. Ни за что!
– Но почему? Ведь спасти Аполлона я смогу, только заключив с ними союз. Ему помогут не друзья, а враги. Цена – моя душа. Но что, в конце концов, осталось от этой души? Она – на продажу. Опустошенный сосуд жалкого и смешного человека.
– Нет! – резко выговаривает ему Александр.– Я запрещаю вам! Вы что, не понимаете, Вольдемар, что нельзя спасти добро в союзе со злом, даже если оно невелико? Вольдемар, берегитесь! Зло всегда требует полной отдачи даже за малое одолжение, и еще никогда не выпускало из своих когтей того, кто попал в его руки. И даже, друг мой, если вырвешься из его сетей, нити будут тянуться за тобой всю жизнь. Ценой предательства самого себя, даже видимостью такого предательства вы не спасет жизнь ближнего. Я не разрешаю вам, Вольдемар.
Слова Александра звучат на этот раз самым решительным образом, и Вольдемар совсем выходит из себя.
– Извините, – кричит он, – извините меня, если скажу вам то, что накипело у меня в сердце. Вы нарушаете ваш профессиональный долг, Александр. Вы защитник Аполлона, и долг ваш принять любое предложение, которое сможет спасти жизнь вашего подзащитного. Тем более, что вы посланы в Германию – спасать евреев. Вы уклоняетесь от цели вашего приезда сюда из-за ничтожной совести такого, как я, маленького немца, жалкого и смешного Фауста.
– Я не хочу спасть еврейскую душу, какой бы она ни была, ценой души другого, даже если он немец и даже если продам его задешево или с большой выгодой.
– Так? Я слышу ваши слова и чувствую, что внезапно заброшен в другое столетие. Вы не из наших дней, где торговля душами – каждодневное дело. Вам следует приспособиться к нашим дням.
– Сядьте, в конце концов! Голова моя ходит кругом от вашего бега по комнате.
Теперь, когда Шпац послушно сел, встает Александр, подходит к окну, возвращается, становится напротив Шпаца:
– Вольдемар, я вас подозреваю в том, что вы собираетесь продать им ваши рисунки не только для ускорения суда над Аполлоном, но и самому предстать им их человеком, чтобы спокойно вернуться к своим малым грешкам. Этакий союз, заключенный с малым бесом во имя одного большого великодушия. И с этих пор, Вольдемар, душа твоя будет свободной. По ту сторону добра и зла, Вольдемар, начинаются владения дьявола. Я запрещаю вам это. Запрещаю!
– Нет, нет, нет. Не подозревайте меня в этом. Даже если я продам рисунки Бено, и они будут иллюстрировать нацистскую поэму, даже если на меня будут презрительно указывать пальцем те, которых я любил, и отдаляться от меня все, кто мне дорог, душа моя не сдастся дьяволу! Она защищена от этого!
– Откуда вы знаете? Откуда такая уверенность?
Теперь Шпац говорит спокойным голосом:
– Дело простое. Во-первых, я член общества защиты животных, и нет у меня времени на всякие малые злодейские уловки. Я вам уже сказал, доктор, а вы не услышали: я вступил в это общество, чтобы под покровительством дюжины добрых и некрасивых женщин остерегаться зла. Кроме этого, я не могу быть злодеем из-за пари.
– Пари? – прерывает его с удивлением Александр, несмотря на то, что не в его правилах вмешиваться в слова собеседника. – Вы говорите, пари?
– Именно это я говорю. Благодаря пари я человек хороший, и, очевидно, им буду. Я заключил пари с братом-близнецом. Когда я присоединился к обществу защиты животных и получил должность управляющего фермой собак и кошек, я перешел жить из города в небольшой барак на ферме. Заброшенное чудесное место. Но перед этим было у меня такое ощущение, доктор, что я отдаляюсь от этого мира, будничного и простого, куда-то на обочину жизни, и дорога туда долгая и очень далекая. Кто меня там посетит? Поехал я проститься с моей семьей в Нюрнберг. Брат-близнец там живет, там женился. Брат абсолютно не похож на меня. Зовут его – Фридольф. Этакое мягкое ласкающее имя. Он первым вышел из материнского чрева, я – за ним. И с тех пор всегда был первым во всем. Ему первому мать отрезала хлеб на полдник в школу, он всегда одолевал меня в щипании и тумаках, которые мы отвешивали друг другу, но лицо его всегда оставалось гладким, спокойным, ласковым, как его имя. У меня же лицо всегда было страдающим, злым, в синяках. В глазах отца и матери именно он успешнее всех сыновей. Он работает чиновником в муниципалитете Нюрнберга, жена из уважаемой в городе семьи зажиточных пекарей. Он человек порядка и формы, и такова его жизнь, но глаза его холодны и характер сух, и когда мы встречаемся, он привычно читает мне мораль в назидание: «Вольдемар, человек обязан хранить себя, свои права, и уметь извлекать пользу из всего. Требуй своего, Вольдемар, а не пользы другим. Никогда люди не платят добром за добро. Человек всего-то пес на двух ногах...» Слова эти всегда вызывали во мне гнев, но на этот раз я просто вышел из себя! Я поспорил с ним, заключил пари на то, что человек – не пес. И я хожу на двух ногах, но всегда буду человеком. Поспорили мы на период в пятнадцать лет. После этого приведем свои доказательства, кто он – это существо на двух ногах. В течение пятнадцати лет я должен доказать, что я – человек. Если нет, я проиграю пари...
– Хм-м-м!
– Все вы хмыкаете, доктор, и молчите! И каков смысл в этом пари? Нет в нем никакой логики. Среди собак и кошек не трудно быть человеком. Но, быть может, мне не удастся быть человеком среди людей? Во всяком случае, не в наши дни.
– Но вам дано, Вольдемар, доказать знакомым и друзьям Аполлона, что они все же люди, и долг их спасти невинного. Это в ваших силах.
– Может быть, доктор. Я выполню вашу просьбу, доктор, в воскресенье. Только для вас я сделаю это, только для вас. Наконец-то вы сказали, что я часть вашей жизни, несмотря на то, что я немец.
– Я такое сказал? – изумился Александр. – Это вообще не в моем стиле.
– Ну, не прямо, а намеком. И в вашем намеке больше, чем во всех долгих речах вашего собеседника.
– Куда? – с тревогой спросил Александр, видя, что Шпац поднимается со стула.
– Возвращаюсь на собачью ферму, доктор.
– Как вы туда доберетесь. Ведь продолжается всеобщая забастовка транспортников. Как вы вообще добрались сюда в столь ранний час?
– Не беспокойтесь, доктор, у меня есть свой транспорт.
– Свой? – Александр замечает небольшой, странного вида автомобиль, у края тротуара, напротив дома, открытый, похожий на гоночную машину огненно красного цвета.
– Наша. Мы ее соорудили из рухляди.
– Мы? Вы и дюжина ваших женщин?
– Нет, нет, доктор, что вы? Я и Виктор, мастер художественного свиста, которого я вам представил в тот вечер, в ночном клубе. Не помните?
– А-а? Да. И он представился мне, как добрый друг Аполлона.
– Это было тогда. Аполлон еще его интересовал. Теперь он интересуется только автомобильными гонками, и только об этом бубнит каждый день. Он уже строит для себя новый гоночный автомобиль, а это старье, что мы собрали вместе, пока отдал в мое распоряжение. Он хороший друг – свистун Виктор.
– Вольдемар, – испытывает его Александр, – кроме него нет у тебя добрых друзей? Извини меня за вопрос, почему у тебя нет подруги? Ты ведь такой добрый и симпатичный парень.
– Я симпатичный парень? Только вы так полагаете. Но девушки... Девушки, к которым лежит мое сердце, не желают меня. А те, которые меня желают, меня не интересуют.
– Мне очень жаль, Вольдемар, что в ближайшее воскресенье вы будет так заняты. Хотел пригласить вас присоединиться ко мне в поездке на старое латунное предприятие, к месту моего рождения. Фабрика закрыта, но в ней в последние недели организован лагерь для подготовки еврейской молодежи к жизни в стране Израиля. Я хотел бы показать вам эту ферму...
– Нет, большое спасибо. Хватит мне своей фермы, доктор.
Зависть слышалась в его словах, сильнейшая ревность к этой веселой, полной свежих сил, молодежи, окружающей Александра, как одна большая семья. С такой теплотой относятся они друг к другу, что Александр, сдержанный и деловитый, становится в их среде веселым и сердечным. Шпац внезапно почувствовал себя во много раз более одиноким и несчастным при упоминании Александром своих поклонников.
– Ах, доктор! Не знаете вы, как хорошо быть евреем.
Внезапно он быстро ретируется, сказав лишь – «До свидания». Пересекает комнату и хлопает дверью. Александр видит в окно Шпаца, движущегося сквозь снежную вьюгу. Воротник пальто поднят, ноги делают большие шаги через сугробы. Красный автомобиль окутывается клубами дыма, напрягаясь изо всех сил, и, наконец, сдвигается с места. Неожиданно Александру вспомнились строки куплета из еврейского старого мюзикла, который он услышал от еврейского студента в Польше:
Боже, Отче наш,Нет жалоб к Тебе на устах моих,Благодарю тебя день ото дня,Что Ты сделал евреем меня.Душа моя млеетОт того, что ты сделал меня евреем,И на протяженье всех моих дней,Я счастлив, что я – еврей.И улыбка, лукавая и печальная, возникла у Александра на губах.
Глава седьмая
Утро сюрпризов!
Сани на улицах Берлина. Давно исчезли сани из городского пейзажа, но грянула забастовка транспортников, и вернулись они на улицы столицы. Вид этих больших открытых карет, с облупившейся краской, спешно извлеченных из старых складов, привлекал всеобщее внимание – особенно лошади. Морды их погружены в кожаные маски, тела обтянуты желтой тканью, вожжи и сбруя увешаны весело звенящими колокольчиками, они тяжело дышат, белый пар из горячих ноздрей и ртов вырывается в студеный воздух, кнуты посвистывают, и так весело-весело! Точно, как в рассказах деда о сверкающих белых зимах в добрые старые времена.
Только дед рассказывал, что тогда кареты на полозьях ожидали пассажиров на всех перекрестках главной улицы, и кучер не трогался с места, пока карета не наполнялась пассажирами. Кучер стоял около своей зимней кареты, покрытой блестящим черным или белым лаком. На голове его был высокий цилиндр, на плечах широкая серая накидка, руки в белых перчатках, и голова наклонялась в сторону прохожих, приглашая к поездке, как бы говоря: «Садитесь ко мне, господин, нам недостает еще одной печальной души, чтобы тронуться в путь». И всегда дед оказывался той недостающей печальной душой во спасение остальных пассажиров, которых ожидание вгоняло в депрессию. Потому все кучера на всех углах города кланялись ему до земли дважды. Деду всегда было, куда и к кому ехать. Одна его знакомая, по имени Анна, очень любила кататься на санях. Родственники у деда были на каждой улице и в каждом квартале. Был у него дядя, брат матери, по имени Аарон. Этот дядя торговал коврами, был богачом, отцом восемнадцати сыновей от двух жен. И все эти сыновья были долгожителями, и тоже обзавелись многими детьми, как их отец. Умер дядя Аарон в доброй старости, девяноста шести лет от роду, оставив после себя целую династию сыновей, внуков, правнуков и праправнуков, и все потомки, появившиеся на свет в год его кончины, были названы его именем, и всего их было пятьдесят. И дед скользил на санях по белу снегу, навещая всех пятьдесят последышей, и нет такого квартала в Берлине, где бы ни проживал кто-либо из этих родственников. А они были связаны со всеми делами, вершившимися в огромном городе. Когда он хотел узнать, как обстоят дела в бизнесе, какой-либо Аарон ему нашептывал последние новости. Все политические новости и сплетни передавал ему другой Аарон, вхожий в коридоры парламента. В случае грабежа или убийства, дед жаждал узнать подробности до мелочей, и на этот случай находился Аарон, знающий все в о мире преступности. Если он хотел посетить новый спектакль, и все билеты были проданы, третий или пятый Аарон доставал ему контрамарку. И для покупки нового модного пальто он даже пальцем не шевелил без Аарона, специалиста по верхней одежде. Потому для деда не было более приятного развлечения, чем скольжение на санях от Аарона к Аарону.
– Ах! – вздыхала Иоанна. Как бы она хотела делать то же самое, что и дед. Но нет кучеров с белыми перчатками, приглашающих ее с поклонами, как «недостающую душу». На головах кучеров, управляющих старыми потертыми каретами на полозьях нет блестящих цилиндров, а обычные кепки, а под ними – толстые шерстяные платки, окутывающие головы и лица. Сегодняшние кучера не кланяются пассажирам и не посвистывают кнутами, а только громко орут: «Не втискиваться! Не набиваться! Вы мне разнесете сани, волчья стая!» Да и не собирается Иоанна навещать какого-либо Аарона. Она бы хотела навестить графа-скульптора в старой части Берлина. Это ее большая тайна. В дни, когда она должна пройти облучение кварцем для загара у доктора Вольфа, она едет к графу-скульптору и позирует ему долгие часы, ибо он пишет маслом ее портрет. Вот, и сегодня она обещала придти, поэтому не могла согласиться на предложение Эдит, и перенести процедуру на послеполуденные часы. Тут же, когда Эдит довезла ее на своей машине до ворот школы, она бегом бросилась на площадь, к ближайшей бастующей трамвайной остановке, где останавливаются кареты и набирают пассажиров и катят по тому же трамвайному маршруту. У остановки длинная очередь, и уже видна приближающаяся карета, начинается толкотня, крики и ругань.
Уже более часа топчется Иоанна на остановке и не может втиснуться в карету. Лицо ее и уши посинели от стужи, которая щиплет кожу. И вдобавок к этому доводят ее полы юбки. Это синяя юбка, красивей и новей всех остальных, в нее Иоанна любит наряжаться для графа. Но так как подол юбки распоролся, Иоанна, торопясь , закрепила его булавками, И теперь, когда она перебирает ногами, стараясь согреться, при каждом движении булавки колются.
– Дайте мне забраться в сани, – кричит Иоанна в отчаянии, – мне надо добраться до школы! Я тороплюсь в школу!
И как укол булавки в ногу, колет ее сердце ложь. Но она не помогает. Острые локти отталкивают ее назад, и нет у нее шансов добраться до лестницы кареты. Глаза ее наполняются слезами и... Господи Боже! За пеленой слез она видит в санях сидящего на облучке «графа Кокса», того самого, из старого еврейского двора! И хотя отношения с ним у Иоанны не совсем нормальны с тех пор, когда она пошла с графом-скульптором хоронить порванный еврейский молитвенник, граф Кокс смотрит на нее сердито, она все же кричит:
– Граф Кокс! Гра-а-аф Кокс!
– Иисусе! Черная девочка графа! Поднимайся и садись рядом со мной на облучок.
И не только приглашает ее, а помогает взобраться на высокий облучок. Лицо ее искажено гримасой, булавки впиваются в ноги.
– Куда? – спрашивает ее граф Кокс.
– К Нанте Дудлю, – мямлит Иоанна, бормотаньем скрывая правду. Но граф Кокс равнодушно произносит:
– Ну, к графу-скульптору. Иисусе, дорога слишком далека. Ты замерзнешь от стужи, пока доедешь, – и он милосердно покрывает голые коленки Иоанны одеялом.
И вправду далека дорога к графу. Сани скользят вдоль всей реки Шпрее, останавливаясь, время от времени. Что делать, чтобы не чувствовать длительность дороги? О чем думать? Конец любого размышления... граф. А дороге нет конца. Внезапно, приходит идея в голову Иоанны: она двинется по стопам деда, как бы от Аарона к Аарону. Каждая остановка – Аарон. Пока дойдет до пятидесяти, доедет до графа, в старый Берлин. Разве она не знает бесконечное число баек об этих родственниках деда по имени Аарон? И словно бы она знает лично каждого из них, стучит в их двери, входит в их дома, ведет с каждым из пятидесяти нескончаемые беседы, несмотря на то, что дед никогда не брал ее ни к одному Аарону. Весьма редко она видела кого-то из них в отчем доме. Кто-то из них посетил дом после смерти отца, тогда она впервые их увидела. Да и дед уже не навещает их. Не только потому, что исчезли сани с улиц Берлина, и не столь радостна поездка от Аарона к Аарону, какой была раньше, но потому, что последние из них не те, какими были раньше. Часть из них ушла мир иной, и о них дед рассказывал с печалью: они не удостоились долголетия, отличавшего их семью. Часть умерла обычной смертью, некоторые погибли на последней войне, а оставшиеся в живых, вернулись домой слепцами, инвалидами. Некоторые тронулись умом от грохота пушек. Эти в большинстве, все же, пришли в себя после войны. Богатство их было потеряно при инфляции, и с тех пор они все вспоминают те хорошие дни, и считают себя ужасно несчастными, а дед не уважает несчастных людей, даже если они родственники.
Иоанна видит вдоль долгой дороги бесконечный ряд окон. Лица людей несчастны, и ей очень жаль тех последних родственников, потерявших свои богатства. Чтобы отвлечься от бед, Иоанна решает посетить до следующей остановки одного из родственников, по имени Аарон. Но дойдя до первого, останавливается у дверей. Этот Аарон был тайным советником. Последние из этой плеяды были не только советниками деда, но также советниками кайзера Вильгельма. Любил кайзер всякие высокие степени и щедро раздавал их своим подопечным, тем, которых уважал. Последние все были советниками: по торговле, тайные, советники правительства. Каждый последний Аарон – со своей степенью. Хотя Иоанна не такая революционерка, как Саул, но против кайзера Вильгельма она решительно выступает. Нет! Не пойдет она на встречу с советником кайзера Аароном, на порог его не ступит, даже если, именно, благодаря мыслям о нем, доберется до графа.
Еще одна остановка. И граф Кокс орет во все горло:
– Что за толкотня! Только три свободных места. Эта забастовка превращает людей в хищных зверей.
– Плохое дело, эта забастовка, – говорит Иоанна, топает ногами, и все булавки впиваются ей икры.
– Что плохого в забастовке? – не соглашается с ней Кокс, собирая оплату с новых пассажиров – заработок неплох. В конце концов, и кучера-частники с прибылью.
Улица пряма, как линейка, и конец ее далек. Некуда сбежать. Иоанна вынуждена в своем воображении войти в дом одного Аарона. Не все они были советниками кайзера. Один из них был лордом! И вот уже Иоанна жмет ему руку... Лорд Аарон был в молодости послан в Лондон осваивать производство готовой одежды. Приехал оттуда в клетчатом костюме по лондонской моде. Говорил по-немецки с английским произношением. Акцент у него был гортанный берлинский: слова клокотали в горле. Он старался походить на англичанина во всем. Остальные сорок девять его родственников, по имени Аарон, исходили гневом, слыша его высокомерно уничтожающие слова о Германии, в общем, и о Берлине, в частности. Ничего ему здесь не нравилось. Ни кайзер, ни правительство, ни пиво, ни берлинцы, пьющие это пойло. С большим вдохновением он рассказывал о Лондоне, огромном городе с небольшими домами сельского типа, и у каждого свой садик, и с отвращением показывал пальцем на серые хмурые дома Берлина, у которых нет садиков и клумб, только высокие запыленные стены-брандмауэры, построенные для того, чтобы отделить дом от дома в случае пожара. Именно, это предназначение стен вызывало ехидство Аарона-лорда, именно, это привело к жестоким столкновениям с остальными его тезками, главным образом, проживающими в Берлине, о котором он говорил, что в этом городе нет ни красоты, ни культуры, ни искусства, короче, ничего, что расширяет знание и вообще кругозор человека. А ведь, вопреки Аарону-лорду, все остальные его тезки любили кайзера всей душой, как и Германию, и Берлин, и гордость их всем этим не имела предела.
Однажды проведал его и дед, узнать новости из Лондона. Прогуливались они по роскошным Липовым Аллеям – Унтер ден Линден, глядели на парад войск, возвращавшихся с маневров во главе с военным оркестром. Дед приветствовал их помахиванием своей трости, а «лорд» кривил носом. Фланируя, они прошли мимо знаменитого кафе Кранцлера, и в этот час на веранде кафе сидели сливки офицерства, облизывая сливки мороженого, и делая замечания по поводу всех, проходящих мимо. Когда прошли мимо них дед и Аарон, в своем клетчатом лондонском костюме, походкой «лорда», его окликнул один из молодых офицеров, который ел мороженое в компании дамы:
– Поглядите, какой смешной жид.
Дед поднял голову, несмотря на то, что стучал тростью по тротуару, и собирался продолжать прогулку, но «лорд» не собирался делать вид, что не слышал реплику в свой адрес. Он быстро взбежал по ступеням кафе, и офицер не успел вздохнуть от неожиданности, как пятно звонкой пощечины багровело на его щеке. Дама рядом с ним завизжала. Но этого было недостаточно: «лорд» вызвал офицера на дуэль на пистолетах. Такого еще слышно не было в Берлине, чтобы еврей вызвал кайзеровского офицера на дуэль! Дед пытался уладить дело мирным путем, объясняя родственнику, что не стоит стрелять в офицера, хотя наглость того велика, но заработная плата его мала. Но Аарон не отступал.
– Вы, немецкие евреи, – кипел злостью и кричал Аарон, – готовы унижаться и принимать любые плевки в вашу сторону. Получаете удар и умираете от страха. Я – нет! – и он бил себя в грудь, с явным вызовом деду, который, как известно, не был из породы «умирающих от страха» и ни перед кем не склонял голову. Но так же, как дед шел своим путем, Аарон-лорд шел своим, и стоял на том, чтобы застрелить офицера, но колесо фортуны обернулось не в ту сторону: офицер застрелил его, и тем самым погасил свечу Аарона-лорда. Дед ужасно переживал его смерть, несмотря на то, что тот его сильно унизил своими обвинениями. «Жаль, – говорил дед, – что так трагично закончилась жизнь гордого еврея, ибо мало среди них таких гордых, за исключением Аарона-лорда, и кроме него он знает, быть может, одного-двух. Но дело в том, – добавлял дед, – что лорд Аарон был космополитом, и это было плохое в нем и абсолютно лишнее».
Иоанна ничего плохого не находит в космополитизме лорда Аарона, тем более длинная улица пришла к своему концу, и посещение дяди космополита приблизило ее к графу. Уже видна белая замерзшая река, как хрустальное полотно. Шоссе по обе ее стороны белы и чисты, и влекут в сверкающую даль. Нет! Космополит Аарон не был прав, говоря, что Берлин уродлив. Город красив, даже очень!
Остановка. Пассажиры сходят с кареты, садятся новые.
Дело с космополитом Аароном закончено. Новая остановка и новый Аарон. Дом его, вероятнее всего, где-то здесь, среди красивых зданий с приветливыми фасадами, выстроившихся вдоль реки. Здания эти в прошлом были дворцами аристократов и уважаемых граждан, и этот Аарон был уважаемым гражданином города, преуспевающим бизнесменом и считался в общине большим богачом. Сиротский дом и бесплатная столовая для бедных и нищих по сей день носят его имя. Дед его очень уважал, но с оговорками. Дела этого Аарона, главным образом, были связаны с железной дорогой и поездами. На стене его офиса висела огромная фотография первого в мире паровоза, соседствующая с портретом его изобретателя Георга Стефенсона в черном высоком цилиндре и темном костюме, фалды фрака которого походили на ласточкины хвосты. Аарон с гордостью указывал на Георга Стефенсона, словно был с ним в родстве, словно паровоз – глава его семьи, а не он, Аарон, продавец ковров, муж двух жен и отец восемнадцати детей. Аарон этот был внуком старого Аарона, и дела его с поездами начались в дни расцвета, дни создателей основ Германии, в дни железного канцлера Бисмарка, открывавшие инициативу любому, обладающему умом и деловой хваткой. Удача улыбнулась тогда деду и Аарону, который строил железные дороги по всему миру, в отдаленных районах Германии, и массы людей покупали акции преуспевающей торговой фирмы Аарона, зная, что там деньги их гарантированы. Только дед не вложил ни гроша в эти акции. Дед не любил заниматься бизнесом с членами своей семьи, и в этом было его счастье. Настал день, и преуспевающий Аарон полностью обанкротился и пустил себе пулю в висок, увлекая за собой множество людей, которые вложили весь свой капитал в его железные дороги. Столь известное имя самоубийцы все хором клеймили позором, называя его обманщиком и авантюристом. Все газеты в рисованных его портретах назойливо выделяли орлиный нос клювом, фамильный нос всех братьев по имени Аарон, который при жизни и успехе ему не мешал, теперь же был карикатурно увеличен с явным намеком. Через некоторое время дед пошел выразить соболезнование семье, не поехал, ни на санях, ни в карете, пошел пешком, с подчеркнутой скромностью, чтобы не обратить на себя внимания бесчинствующей у дома Аарона толпы, выкрикивающей:
«Знай, Ицик! Знай, Ицик! Позор обманщикам! Вон!»
В роскошном зале приемов дома Аарона, под большим масляным портретом хозяина, стучал молоток распродажи. Аукцион был в разгаре. Зал был полон народа и оглушал множеством голосов. В темном углу одиноко сидела вдова Аарона, одетая черное платье. Голова ее была опущена. Молоток стучал, и вещь за вещью переходила в чужие руки. Дед ничего не купил на память из вещей преуспевавшего некогда Аарона, и не хотел никакой памятки от родственника-самоубийцы. Дед считал, что евреи должны быть особенно осторожными и расчетливыми, но таких евреев было мало. Кроме него самого, быть может, один-два. Но Иоанна считает, что дед повел себя с вдовой этого Аарона и его детьми не очень порядочно. Мог дать им хотя бы половину своего капитала, и оставшегося ему бы хватило сверх меры. Но дед не дал им ни гроша. И от позора и нищеты они эмигрировали в Аргентину, и по сей день ничего о них не слышно. Дед даже не взял к себе в дом вдову, несмотря на то, что в доме было достаточно свободных комнат. Он не желал видеть в своем доме вдову в черных траурных одеждах... Иоанна пожимает руку женщины в черном одеянии, с лицом, покрытым слезами. Картина эта, на рекламе, простерта на высокой стене, той самой, охраняющей от пожара, которая столь ненавистна была лорду Аарону. Ноги женщины топчут слова объявления большими буквами: