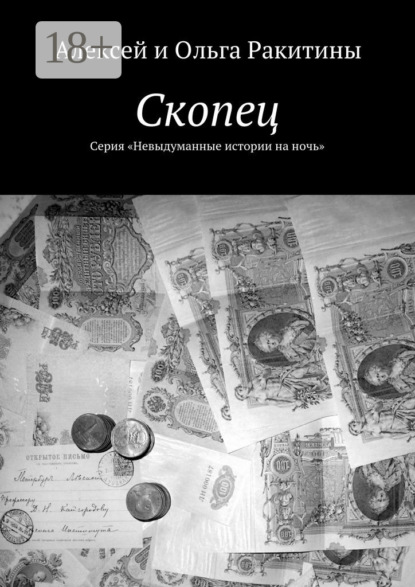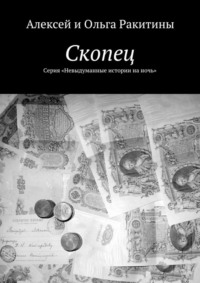Полная версия
Неоконченный пасьянс. Серия «Невыдуманные истории на ночь»
– Не беспокойтесь, господин агент, всё сделаем в лучшем виде, – закивал точно китайский болванчик домоправитель.– Ни в чём не сомневайтесь.
– Головой отвечаете за сохранность квартиры. – продолжал между тем Иванов, не обращая внимания на слова Анисимова. – Дело серьёзное, серьёзнее некуда… А если барыня Александра Васильевна объявится, немедля дайте знать в полицейскую часть.
Расставшись с домоправителем, Агафон Иванов вышел на Садовую улицу. Перед дверью парадного подъезда его дожидался пристав. Полицейские – один в форме, другой в штатском – двинулись к остановке конки, разговаривая на ходу.
– Скажите пожалуйста, а почему это господин Путилин распорядился ещё один замок на каждую дверь внутреннюю дверь повесить? – недоумевал Жеребцов.
– Да как сказать, господин пристав… Богатая квартира без присмотра, хозяйка неизвестно где. Так пусть уж лучше под нашим замком остаётся, ключа от которого ни у кого нет – мы это точно знаем, – усмехнулся Иванов. – Старый приёмчик… Кстати, вы обратили внимание на то, что парадная дверь не была заперта на ключ, а только прикрыта, потому и поддалась под рукой полковника? Как полагаете, почему убийца, выходя, не закрыл её ключом?
– Боялся шуметь.
– Вот именно. И ещё боялся медлить у двери. Значит – что? Знал, что внизу работает дворник. – резюмировал Иванов.
– Но ведь ему всё равно предстояло пройти мимо него, чтобы выйти на улицу. Если Филимон действительно занимался перестановкой петли, то он должен был видеть выходящего убийцу, – пристав задумался немного над сказанным и добавил оговорку. – Ну, почти наверняка.
– Это в том случае, если убийца пошёл вниз по лестнице, на улицу. А если он пошёл вверх, то Филимон никак его видеть не мог, – весело парировал сыщик. – Кроме того, преступник, заслышав возню Филимона, мог просто стоять за приотворённой дверью и дожидаться, когда дворник уйдёт. После этого преступник спокойненько вышел из парадной.
– Стало быть, в ту самую минуту, когда полковник Волков звонил в квартиру, убийца мог находиться за дверью.
– Это вполне вероятно, – согласился Иванов. – Либо он буквально минутами разминулся с полковником, либо действительно, стоял за дверью и пережидал, пока тот уйдёт.
2
Сотрудников сыскной полиции недаром частенько называли неласковым словом «ищейки». Так же, как и охотничьи собаки, они были призваны выслеживать свою цель и идти по её следу до тех пор, пока им не представится случай вцепиться в неё мёртвой, безжалостной хваткой. Как и собаки, сыщики занимались своим ремеслом вовсе не за похвалу, не за сахарную косточку, а в силу присущей им внутренней потребности. Либо была эта потребность в крови – и тогда полицейский становился хорошим сыщиком – либо её не было – и в этом случае вкус к подобной работе невозможно было привить. Труд сыскного агента был связан с регулярными выездами на места совершения преступлений, осмотрами трупов, бесконечными разъездами, встречами с людьми, беготнёй по всему городу, зачастую бессмысленной и неоправданной. Иной раз целые сутки агенту приходилось проводить на ногах. Порой в него стреляли из пистолета или совали под рёбра нож. Гораздо чаще пытались пнуть или тривиально плюнуть в лицо. Одним словом, никакого морального удовлетворения человек несведущий не смог бы отыскать в этом в высшей степени тяжёлом и грязном труде. Но, как это не покажется парадоксальным, именно такой труд был способен делать людей счастливыми. «Мы выходим на улицы и улицы становятся чище», – любил повторять Путилин, и слова эти вполне можно было бы поместить на герб столичной Сыскной полиции, если бы таковой кто-нибудь надумал рисовать. Люди, попавшие в ряды сыскарей во времена Путилина не уходили оттуда добровольно. Текучки кадров не было вовсе, и высшим наказанием начальника почиталось отстранение провинившегося от дела.
То ли дело – работа прокурорского следователя – сиди себе, бумажки перекладывай. Выписывай отношения, ордера, постановления и выписки из дел. Командуй сыскарями, рапортуй начальству. Вшивай бумажки в дело. Пересчитывай их, описывай и опечатывай. Проводи допросы и тоже вшивай их в дело. С ума можно сойти от такой рутины. Никто с ножом не бросится, даже горло никто перегрызать не станет. Тоска! Подозреваемого сыскари на аркане притащат, причём, нередко уже во всём сознавшегося. Разве ж это розыск?
Примерно так размышлял Агафон Иванов, подъезжая на извозчике к Николаевскому вокзалу. Часы на башенке показывали уже чуть более семи часов пополудни. Главный вокзал столицы, обеспечивавший её связь с Москвой и центральными губерниями, жил в этот вечерний час своей обычной жизнью: доносились гудки паровозов, сновали озабоченные пассажиры, вдоль фронтона, выходившего на Знаменскую площадь, фалангой стояли извозчики. Иванов первым делом направился к дежурному офицеру жандармской команды при вокзале. На всех вокзалах Российской империи, а также в полосе отчуждения железных дорог поддержание порядка было возложено на особые жандармские команды, никак не подчинявшиеся местному полицейскому руководству. Поэтому сыскные агенты были просто обречены на то, чтобы поддерживать с ними самые добрые отношения.
Молодой стройный ротмистр, сидя за большим столом в кабинете дежурного, соседствовавшим с приёмной начальника вокзала и кабинетом командира жандармской команды, был занят делом, требовавшим максимального сосредоточения внимания, а именно – очинял карандаши, которые по мере готовности опускал в гранёную яхонтовую карандашницу перед собой.
– Добрый вечер, господин ротмистр, – поприветствовал дежурного Агафон. – Давненько не встречались, Андрей Павлович!
– Да уж, давно, – с улыбкой отозвался ротмистр. – Почитай, неделю у нас не были, господин Иванов.
Были они старыми знакомцами, и по роду служебных обязанностей видеться им доводилось довольно часто. Между жандармом и сыщиком давно установились добродушно-ироничные отношения, потому как Агафон по простоте своего происхождения принимал на себя роль сермяжного, неунывающего коллеги, а ротмистр Давыдов, сын артиллерийского полковника, только начинал свою карьеру в Корпусе жандармов и никаких оснований кичиться своей службой не имел. Был он куда моложе Иванова, но молодости и неопытности своей не стеснялся, с простоватым на вид Ивановым не чинился и не важничал.
– Я, видите ли, решил ввечеру немного поработать, карандашики очинить. – сказал ротмистр, отодвигая в сторону ножичек и лист с горкою стружки.
– Хорошее дело, Андрей Павлович, – согласился Иванов. – Не всё же в оловянных солдатиков играть, правда? надоть и карандаши поточить.
Между полицейскими и жандармами традиционно существовали холодные, если не сказать натянутые отношения. Хотя обе структуры входили в состав Министерства внутренних дел, жандармерия внутри него была обособлена в виде Корпуса жандармов, подчинённого напрямую министру, который традиционно носил звание шефа Корпуса. Поскольку офицеры Корпуса набирались из числа молодых выпускников военных училищ, полицейские почитали жандармов военнослужащими, именовали их «сапогами», и посмеивались над строевой и стрелковой подготовкой жандармских команд, полностью заимствованной из армии. Жандармы в свою очередь считали полицию «штатской организацией», называли за глаза её сотрудников «штафирками» и «шпаками в кителях», и относились к ним как к сплошь лентяям и выпивохам. Ведомственную ревность особо питало то обстоятельство, что политический сыск в Империи, а также контрразведка были отнесены к ведению Корпуса жандармов; данное обстоятельство свидетельствовало о Монаршем доверии этой организации и чрезвычайно уязвляло самолюбие полицейских всех рангов.
– Ну уж нет, по оловянным солдатикам у нас есть другие мастера, я всё больше по каруселям.– Давыдов искоса посмотрел на ощетинившуюся карандашницу; торчавшие вверх наточенные грифеля напоминали то ли пики, то ли частокол.– Ну-с, и что же привело Вас к нам на сей раз, господин сыскной агент?
– Надо выяснить, не выезжала ли сегодня в первой половине дня в направлении Боровичей Новгородской губернии некая Александра Васильевна Мелешевич, она же Барклай. Вдова статского советника, дама сорока шести лет. Вот её фотографическая карточка.
Агафон протянул ротмистру портрет в деревянной рамочке, снятый со стены в кабинете Александры Васильевны. Портрету этому было около десяти лет, и на нём Александра Васильевна выглядела молодой привлекательной дамой с маленьким букетиком незабудок в пышных волосах. Большие глаза с поволокой, красиво очерченные губы, изящные ухоженные руки придавали ей вид уверенной в себе светской дамы. Вероятно, ей и самой нравился этот портрет, раз она поместила его на стене в собственном кабинете. Ротмистр вгляделся в фотографию, пытаясь по облику определить, что за личность перед ним, чем бы она могла дышать, и почему этой миловидной дамой заинтересовалась Сыскная полиция.
Между тем Иванов, опережая неизбежные вопросы жандарма, продолжил:
– Она разыскивается как свидетель. В её петербургской квартире найдена убитой горничная. Хозяйка вроде бы собиралась ехать в новгородское имение. Выехала, видимо, сегодня поутру.
Ротмистр выслушал Иванова с большим вниманием, не отрывая глаз от лица на портрете. Железнодорожные жандармы хоть и несли охранную и караульную службу, всё же не являлись военнослужащими в чистом, так сказать, виде. Повседневное общение с большим числом постоянно меняющихся людей, а также необходимость держать в памяти значительное количество чисел и имён, вырабатывали у них прекрасную зрительную и числовую память. Подобно настоящим полицейским жандармы учились составлению словесного портрета. Большим достоинством железнодорожных жандармов была жёсткая дисциплина, заведённая в их рядах; полицейские сколь угодно много могли смеяться над солдафонством своих друзей-врагов, но если жандарм выходил на службу, можно было быть уверенным, что он отработает её как надо. Поэтому Иванов немалые надежды возлагал на то, что жандармы Николаевского вокзала сумеют опознать госпожу Барклай.
– Так. Ну, я-то её однозначно не видел, – сказал Давыдов, отложив портрет в сторону. – Но сейчас мы вам, господин сыскной агент, всё организуем.
Ротмистр спрятал в стол неочинённые карандаши, аккуратно свернул листок с мусором и бросил его в корзину для бумаг. Стол приобрёл теперь нормальный рабочий вид. Удовлетворённый результатом Давыдов нажал кнопку электрического звонка где-то под столешницей. Через десяток секунд в кабинет явился младший жандарский чин, немо встал по стойке «смирно».
– Вот что, Фёдор. Позови ко мне дежурных по второму и третьему перронам и старшего вокзальных артелей, – распорядился Давыдов и, повернувшись к Иванову, пояснил. – Они у нас сутками работают. Дежурный обязан выходить на перрон к подаче каждого поезда и наблюдать за посадкой пассажиров. Теоретически он должен видеть всех, прошедших через его перрон к составу.
Ротмистр вышел из-за стола и подошёл к огромной карте железных дорог Российской империи, занимавшей всю стену.
– Я полагаю, что вашей дамочке подходят следующие поезда… – ротмистр задумался на секунду. – Московский в восемь с четвертью, харьковский скорый, отходящий в половине десятого… только надо уточнить, делает ли он остановку в Угловке, я того не знаю… ну и, что там ещё? опять же московский, отходящий в одиннадцать десять. И это, пожалуй, всё. Московские отходили от второго перрона, а харьковский – от третьего.
– А если спросить кассиров? – подкинул мысль Иванов. – Возможно, её кто-нибудь вспомнит?
– Думаете, она сама брала билет? – с сомнением в голосе ответил вопросом ротмистр. – Хотя, конечно, можно и кассирам показать карточку. Но честно скажу, на дежурных по перронам надежды больше. Они ведь специально людей рассматривают, запоминают багаж и лица, а кассир всё больше за деньгами следит.
Через несколько минут явились вызванные: один из них был в мундире служащего железнодорожного ведомства, двое других – в тёмно-синих жандармских кителях при оружии. Ротмистр начал с начальника артелий:
– Я попрошу вас, Антон Георгиевич, собрать в нашем дежурном помещении всех грузчиков, работавших вчера до полудня на третьем и втором перронах. Сколько вам потребуется на это времени?
– Ну-у, сейчас посадка на астраханский, – мужчина в железнодорожном мундире на секунду задумался поглядев на большие напольные часы в углу кабинета. – Через семь минут он отходит, работники освободятся. У них будет перерыв в двадцать пять минут. Давайте, через четверть часа.
– Договорились. Через четверть часа встречаемся в дежурном помещении команды у перронов.
Железнодорожник вышел и Давыдов обратился к жандармам:
– Вот что, братцы, прошу вас внимательно посмотреть на эту фотографическую карточку и сказать мне, не садилась ли вчера в первой половине дня эта женщина на московские или харьковский поезда. Не спешите, подумайте как следует.
Ротмист протянул жандармам фотопортрет Александры Васильевны Мелешевич.
– Имела ли она сопровождающих? – уточнил один из жандармов.
Вопрос был по существу, а потому Иванов решил вмешаться:
– Мы не знаем была ли она одна или имела сопровождение. Кроме того, мы ничего не знаем о её багаже. Возможно, вы нам расскажите. Обращаю ваше внимание на то, что снимок, который вы держите в руках, довольно старый. Сейчас этой женщине сорок шесть лет. Она вполне состоятельна, одета прилично и у неё нет причин скрывать или изменять внешность. Билет у неё был в классный вагон, скорее всего, первого класса.
Жандармы внимательно выслушали Иванова и сосредоточились на фотографической карточке. Секунд десять они безмолвно её рассматривали, затем снимок был возвращён ротмистру.
– Определённо, к московским поездам эта женщина вчера в первой половине дня не проходила. – сказал один из них.
Второй тут же добавил:
– На харьковский, с отправлением в девять тридцать не садилась.
Ротмистр отпустил жандармов и, вызвав звонком помощника дежурного по команде, распорядился:
– Побудь возле телефона пока я с господином сыскным агентом пройду по вокзалу. Если меня станут разыскивать отвечай, что я подойду через десять минут.
Однако ротмистр не сразу повёл Иванова в дежурное помещение. По пути они заглянули в кассовый зал, расположенный на входе в здание вокзала. Давыдов отомкнул своим ключом дверь, которая вела в служебный коридор, изгибавшийся буквой «Г»; по нему сыщик и ротмистр вышли к дверям кассовых помещений.
– Мы часом не нарушаем инструкций? – с тревогой в голосе спросил Иванов. – Ведь посторонним категорически запрещено входить в кассовые помещения.
– В другой ситуации я бы, разумеется, вызвал интересующих нас лиц через старшего кассира. Но сейчас его рабочий день уже окончен. Кроме того, дежурный по жандармской команде не является для кассиров посторонним лицом. И дабы совсем уж вас успокоить скажу, что в помещения касс мы заходить не будем, поговорим на пороге, – ответил ротмистр.
В кассах первого класса работали два кассира. Оба внимательно посмотрели на предъявленную им фотографию Александры Васильевны Мелешевич и не смогли вспомнить её среди тех, кто покупал сегодня у них билеты.
– В кассы второго класса пойдём? – полюбопытствовал ротмистр.
– Это лишнее. Давайте-ка, поговорим к носильщиками, да и закончим на этом, – решил Агафон Иванов. Он всё более мрачнел и почти не испытывал сомнений в том, каким именно окажется итог посещения вокзала.
Помещения жандармской команды представляли собой анфиладу комнат на первом этаже вокзала, через которые можно было попасть в кассовые залы, залы ожидания и на перрон. Если кабинет дежурного на втором этаже был украшен прекрасным паркетным полом и уставлен дорогой кожаной мебелью, то в комнатах первого этажа царила обыденная казённая обстановка, делавшая их похожими на казармы. При переходе страны на военное положение в здании Николаевского вокзала размещался настоящий жандармский гарнизон со своей столовой, оружейной, жилыми комнатами, комнатами для временно задержанных. В обычное же время дежурная жандармская смена примерно соответствовала пехотному взводу.
Перед входом в помещения жандармской команды со стороны перрона уже толпились человек двадцать носильщиков и подносчиков. Первые возили багаж пассажиров на массивных железных тележках, которые были составлены тут же, подле хозяев, вторые носили его на руках. И те, и другие были облачены в форменные робы, наподобие рабочих блуз; на груди каждого висел номерной жетон. Рядом с ними находился старший вокзальных артелей, который и обеспечил явку всей этой братии к назначенному времени. Ротмистр Давыдов поднял руку, привлекая внимание собравшихся, и объявил: «Вот что, соколы мои ясноокие, сейчас вслед за мной проходим внутрь комнаты для приёма заявлений и выстраиваемся в шеренгу вдоль перил. Не галдеть, не трындеть, в пол не плевать и не сморкаться, в дверях давки не устраивать!» Ротмистр пустил Иванова вперёд, а затем прошёл и сам; за ними потянулись грузчики.
Помещение, в котором очутился Иванов, было ему хорошо знакомо – это была так называемая «комната приёма заявлений». Ровно посередине она делилась на две половины высокими, до человеческого пояса, перилами; посетители должны были находиться по одну их сторону, а дежурный жандарм со своим письменным столом – по другую. В момент появления ротмистра Давыдова с грузчиками, дежурный фельдфебель что-то выяснял у женщины с маленьким ребёнком, которого она усадила на перила. По команде Давыдова фельдфебель вывел дамочку из комнаты и носильщики выстроились вдоль перил.
Ротмистр прошёл вдоль строя, пошевелил носом, словно принюхиваясь, и пошутил:
– Кто выпил – пусть дышит в себя.
Встав перед строем, ротмистр оглядел «яснооких соколов» и внушительно произнёс:
– Сейчас к вам обратится господин в штатском налево от меня. Выслушайте его внимательно, отнеситесь к сказанному серьёзно. Ваше содействие требуется по делу весьма важному. Прошу…
Он кинул Агафону, и сыскной агент, также встав перед строем, заговорил:
– Вам будет предъявлена фотографическая карточка женщины, которая, возможно, сегодня в первой половине дня садилась в поезд от второго или третьего перронов. Неизвестно как она была одета. Также мы ничего не знаем о том, сопровождал ли её кто-либо. Карточка старая, сделанная лет десять назад, сейчас этой женщине сорок шесть лет. Посмотрите внимательно, ничего друг другу не говорите. Если кто-то её узнает, пусть молча сделает шаг вперёд и ждёт пока я с ним поговорю.
Подойдя к крайнему носильщику, Иванов вручил ему фотопортрет Барклай:
– Посмотри, братец, и передай дальше.
В полной тишине карточка пошла по рукам. Иванов дождался, пока все носильщики посмотрят снимок, принял его из рук последнего и произнёс:
– Кто видел эту женщину сегодня в первой половине дня, пусть сделает шаг вперёд.
Шеренга носильщиков стояла не шелохнувшись. Сыщик некоторое время подождал, рассчитывая на то, что кто-то опомнится и шагнёт из строя, но этого не случилось. Ротмистр, поблагодарив носильщиков за службу, отпустил их.
– Ну что, господин Иванов, не получилось у вас отыскать след дамочки… – полувопросительно-полуутвердительно проговорил ротмистр, когда вышел на перрон вместе с сыщиком.
– В данном случае трудно сказать какой результат был бы положителен, – задумчиво ответил Иванов. – Хотя для самой госпожи Мелешевич лучше всё же было бы уехать из города. Спасибо, ротмистр, за содействие, с вами легко работать.
– Ну что вы! – отмахнулся Давыдов. – Каждый из нас просто делает то, что должен.
– Мне бы, Андрей Палыч, телеграмму дать становому в Боровичах. Отведёте меня к вашему телеграфисту?
– Да пожалуйста! Это без проблем.
Железные дороги Российкой Империи имели собственные телеграфные сети, независимые от Департамента почт и телеграфов. Предназначались они для передачи служебных сообщений, но ведь и Агафон Иванов собирался передать вовсе не любовную весточку. Он выполнял распоряжение начальника Управления Сыскной полиции, хотя теперь, после разговоров с вокзальными работниками, Иванов был уверен, в полной бесполезности посылаемой телеграммы. Он почти не сомневался в том, что ни в какие Боровичи Александра Васильевна Барклай с Николаевского вокзала не выезжала и Петербурга утром двадцать четвёртого апреля вообще не покидала.
Пока Агафон Иванов работал на Николаевском вокзале, Владислав Гаевский обходил всех дворников «яковлевки». Таковых было четверо и все они клятвенно заверили сыскного агента в том, что извозчика для госпожи Мелешевич никто из них не брал. Помощь дворника жильцам своего дома в переноске багажа от квартиры до пролётки была обычным явлением, тем более, когда дело касалось дамы. Потому вопрос о том, каким образом Александра Васильевна добралась до Николаевского вокзала, остался невыясненным.
Затем, сопровождаемый дворником Филимоном, Гаевский разыскал квартиру тех самых продавщиц-цветочниц, что имели обыкновение отправляться на работу в девять часов с минутами. Девиц дома не оказалось, но Гаевскому попался свидетель, возможно, более ценный, чем они сами – их матушка. Оказалось, что цветочницы являлись двоюродными сёстрами, и Правсковья Архиповна была для одной из них кровной, а для другой крестной матерью. Женщина не только с точностью до минуты описала Гаевскому распорядок дня девиц, но даже рассказала какими улицами и по какой стороне тротуара («по нечётной, по нечётной!») спешат они в свой магазин. Гаевский уяснил для себя, что сегодняшним утром сёстры действительно вышли из квартиры в девять с четвертью, как это делали обычно. Таким образом, рассказ Филимона оказался верен и сделанная им привязка событий по времени также могла считаться достоверной.
Далее Владислав Гаевский направил свои стопы в кондитерскую лавочку, что расположилась в подвальчике «яковлевки» со стороны Вознесенского проспекта. Это было довольно просторное помещение с длинной деревянной буфетной стойкой, зеркалами по стенам и небольшими столиками на двоих. Такие заведения, особенно в вечерние часы, обычно посещали гуляющие по улицам парочки, студенты, безбилетные проститутки и их потенциальные клиенты. Здесь можно было выпить кофе с какой-нибудь сдобой, либо купить товар навынос. В кондитерской удивительно вкусно пахло свежей сдобой, ванилью и ещё чем-то таким ароматным, что у Гавского даже засосало под ложечкой, и он остро ощутил, сколь изголодался за этот день. Румяная, пышнотелая, с роскошной крепкой грудью, молодая кондитерша в крахмальном чепце встретила сыщика милой улыбкой, на секунду заставив его позабыть как о голоде, так и о цели визита.
– Что барин изволит? – спросила она с характерным вологодским «оканием» и Гаевскому, бывшему всегда истовым любителем крупных женских форм, пришлось сделать неимоверное усилие над собой, чтобы отвести взгляд от её груди и сострогать в качестве ответа более или менее внятную фразу.
– Да я вот, милая, бывшего приказчика вашего, Власа Дмитриева, ищу, – пробормотал Владислав. – Можно с ним поговорить?
– А вам он на что? – поинтересовалась красавица, явно наслаждаясь произведённым на мужчину эффектом.
– Да я вот, милая… – взгляд Владислава снова упал на грудь женщине и более уже не поднимался.– Деньги я ему должен. Давно брал, потом уезжал, а долг – он ведь такой! – карман жжёт.
– Так он на «Апрашке» в хлебном доме купцов Пантелеевых теперича устроен, – неспешно ответила кондитерша; голос её, мягкий, густой и обволакивающий, необыкновенно подходил всему облику торговки, усиливая впечатление женственности. – Сказывал, платят там лучше, да только и мороки больше, чем у нас…
– Да что ты говоришь, сахарная моя… – тяжело вздохнул Гаевский. – Что же мне теперь делать?
Он дёрнул цепочку, извлёк из кармана часы и силой заставил себя посмотреть на циферблат.
– Не смотрите на часы, – участливо произнесла кондитерша, облокачиваясь на прилавок и склоняясь к Гаевскому. – Поздно ужо.
– Вот и я смотрю, сладкая моя, что поздно уже на «Апрашку» двигать, – вздохнул Владислав, сожалея о глухом, под горло, платье кондитерши, не позволявшем удовлетворить вполне понятное мужское любопытство; впрочем, данное обстоятельство лишь подстёгивало воображение. – А где живёт Влас, не знаешь ли часом, красавица?
– Нету у меня обыкновения к мужчинам ходить, не таковская я. – ответила женщина с достоинством и Гаевский почему-то нисколько ей не поверил. – Но где Влас обретается знаю: в доме Мухортина в Столярном. Его там каженная собака знает, Влас-то ведь мужик шебутной, сами, поди, знаете…
– Это точно. – согласился Гаевский. – Влас – он такой. У Мухортина, значит, говоришь?… А как тебя-то звать, милая?
– Матрёна я.
– А налей-ка, Матрёна, мне чашечку горячего шоколаду, – попросил Гаевский. – Я хоть шоколад не люблю, но из твоих рук выпью. И потом… дай что-нибудь вкусное голодному мужчине. Есть у тебя что-нибудь эдакое для меня?
– Для голодных мужчин, особенно когда они такие обходительные, как вы, барин, у нас завсегда что-нибудь найдётся. Хотите горячую свежую булочку с маком? Наш Пётр мака не жалеет, кладёт в палец толщиною, вкуснота-а… Иль, может, чего другого хотите?