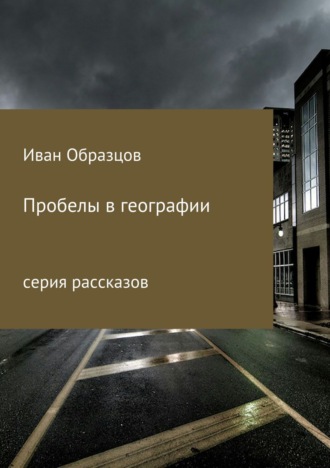 полная версия
полная версияПробелы в географии. Серия рассказов
***
В автобус садились медленно.
В силу возраста многие влезали в автобус по-старушечьи, враскорячку и, покряхтывая, вскарабкивались по узким ступенькам потёртого «Икаруса».
Гробовой ящик с покойником закрыли крышкой, и два поддатых прозаика начали вталкивать его в отдельный микроавтобус. От непривычного груза жёлтый корпус «Газели» покачивался на своих маленьких колёсиках, будто противился вталкиваемому в него трупному содержимому.
– Во как надо, даже мёртвый на отдельном едет, – мрачно заметил один из погрузчиков.
– Дак ему сейчас до метафизического фонаря ведь. Это ж Берёзкин оплатил отдельно, друг ведь как бы, – зло скривился в подобие ухмылки второй погрузчик.
Так, сурово шутя, гроб втолкнули в импровизированный микроавтобусный катафалк.
Первым шутником был прозаик Потников, вторым – прозопублицист Громов.
Оба смотрели злобно и туманно, находясь в начальной стадии алкогольного опьянения, когда радость и злость ходят в русском человеке рука об руку, а в провинциальном писателе сливаются в одно искорёженное тело внутреннего двуликого мутанта.
Для простого русского человека, пребывающего в такой полупьяной мутноватости, поножовщина становится чем-то диким, но, в принципе, уже не таким неприемлемым средством отстаивания своей точки зрения. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный уже начинает тлеть в потёмках русской души. Если пить дальше, то удар оппонента ножом в грудь сливается в сознании с высказыванием крайнего несогласия. То есть, сказать и сделать уравниваются в правах.
Но такая крайность характерна для простого русского обывателя из глубинки, которому до писательства нет никакого дела, разве что рыбу можно завернуть в вырванную страницу или гвозди.
Масса же бесчисленных писателей либо слишком труслива, либо слишком глупа, чтобы ударить ножом по пьянке. Потому им приходится только злобно собачиться друг с другом и то, как правило, вполголоса, и на своей безопасной территории.
***
Этот извечный разрез между «писателями» и «простым народом» остаётся неизменен и, пожалуй, на его преодолении можно будет создать ещё множество производственных романов и патриотических речей.
Интересно то, что русский «простой народ» продолжает бесконечно верить вначале своим властям, которые всё равно его продают. Потом бросается искать справедливости у писателей. Но и те, в конце концов, разочаровывают своей «народностью», которая также бесконечно далека от народа, как олигарх от понимания проблем полунищей библиотекарши или обманутого пенсионера.
В момент народного прозрения, когда вдруг становится очевидной нелепость попыток искать правды в писателях, в этот момент приходит к власти новый политический герой, и народ опять ему верит.
Всё идёт по кругу, из раза в раз.
Если кто хочет понять значение словосочетания «порочный круг», то пускай изучает историю России. Там, конечно, тоже наврут, предадут и обманут, но хоть немного будет понятна эта круговая порочность – хождение по мукам русской истории.
Печальная реальность существования писателя, а может даже и шире – человека искусства, состоит в том, что он всегда пребывает в неопределённом состоянии.
Не имея государственной власти, писатель одновременно с этим не является народом, потому что, обычно, претендует на роль поучающего народ.
Такое состояние неопределённости приводит большинство к состоянию полного ничто, пустого места. Потому что из порочного круга просто нет иного выхода, кроме как вырваться, а это не каждой душе под силу. Вот и крутится писательская биомасса в этом круге до умопомрачения, твёрдо веря, что она и есть цвет, свет и прочие бонусы нации.
Конечно, с этим можно поспорить, только спорить придётся не с одним каким-то человеком, не с власть имущими и не с народным невежеством, а лишь с самим собой.
Здесь большинство обычно и поворачивает на привычную круговую колею, где что похороны, что рождения – всё одно – банкет.
***
Но оставим эту дорогу, которая далеко уводит смятенную русскую душу и не приводит никуда. Кривцова уже туда уводить было не нужно, а в земной жизни его бренное тело везли в отдельном автобусе в последний раз.
Сели, поехали.
За окнами автобуса поминальщиков проплывал унылый, липкий, словно паутина, пейзаж. Ползла лента чернильных, чахлых кустарниковых сплетений, и ползли ободранные вертикальные строчки полудохлых, квёлых берёзок.
Тонкие, хлипкие древесные ветки мельтешили и цеплялись к взгляду, как бы впутываясь своей тягостно-назойливой сеткой в глазную сетчатку. Блёклое рваное небо было затянуто до горизонта сыростью, а по автобусной крыше стекали редкие склизкие и мутные струйки промозглого дождя.
– А ведь Кривцов-то был хорошим человеком, – ляпнула не в строчку престарелая поэтесса Иванова-Бубликова.
Все молчали. Сказать было нечего.
И вдруг очнулся Потников. Они с Громовым уже изрядно помянули покойника, а в автобусе ещё и добавили. Потому оба находились сейчас в том следующем этапе пьяного величия, когда жизненно необходимо рубануть правду матку прямо вот так – как на душу легло. И действительно, правда матка прямо так, в абсолютно голом виде, полезла из человекописателя Потникова, обрызгивая коллег своей неприглядностью.
– Да говна кусок был ваш Кривцов, и всё тут, нечего болтать!
От этих слов Потникова, согласно старой народной поговорке, покойник Кривцов аж в гробу перевернулся.
– Вообще-то, мы не очень разбираемся в сортах упомянутой вами, господин Потников, субстанции, – реплика поэта-эстета Славикова как бы уравновесила ситуацию на пару мгновений.
Но он добавил:
– Хотя, честно признаться, вы на этот раз попали в самую болевую точку, хоть и не письменно, конечно, но с чего-то надо начинать, – Славиков, довольный своей остротой, ухмыльнулся в свою редкую бородку.
– Ты это намекаешь что ли или как? – Потников попробовал приподняться, но автобус подскочил на ухабе, и он повалился обратно на мягкое сиденье.
– Да нет, что вы, здесь, признаться, дело такое… Честно признаться, покойник был довольно дрянной.
Кривцов перевернулся в гробу ещё раз.
– Да что там говорить-то. Я вот статью тогда, помните, в Литературке тиснул, ну, про провинциальную тяжкую жизнь простого русского писателя из провинции. Помните? Так эта тварь Кривцов потом по всем кабинетам бегал и в нос моей статьёй всем тыкал, а меня, так вообще врагом нашего писательского кружка называл! Мы, говорит, его вскормили, а он нас помоями! Такая тварь, такая тварь… – это подал голос сильно поддатый собутыльник Потникова – Громов.
А в гробу Кривцова после этих слов произошло очередное теловращение.
Поминальщики оживились и завязалось злобно-весёлое обсуждение сплетен, фактов и домыслов.
***
Гам наполнил дребезжащий поминальный автобус. Постепенно страсти накалились до предела.
Череда сальных биографических подробностей из жизни покойника обильно примешивалась доносами, а правда мешалась с откровенной ложью. Буйство фантазии и густота мерзких красок достигали в речах второсортных литераторов немыслимых высот и настоящего мастерства.
Выяснилось, что почти у каждого за пазухой было что показать, а те, кому показывать было нечего, тут же сочиняли за пустой пазухой факты и вываливали их наружу.
Через пятнадцать минут Кривцов вертелся в гробу, как безумный вентилятор. Все гробовые цветы сбились в кашеобразный комок, а галстук на мёртвой шее Кривцова сбился на мёртвую спину.
Непонятно откуда в автобусе взялась мелкая назойливая мошкара, которая лезла в глаза, нос, уши, за шиворот и вообще во все возможные щели. Мошкара лезла и мелко кусала любой открытый участок тела.
– Тварь такая, даже помереть не смог в нормальную погоду, – кричал Потников, отмахиваясь от мошкары старым портфелем.
– Да ты что, а что там, куда он бегал-то? Бегал говоришь? Ох, Владик, Владик, всё бегал, кричал, вот и добегался… Куда бегал-то, в отдел культуры что ли, опять жаловаться? – мизерная головка с юркой мордочкой лирической поэтессы Гришкиной вертела носом во все стороны, нюхая воздух и востря уши. Казалось, что эта головка живёт своей отдельной, какой-то слишком дёрганой жизнью. Распухшее тело Гришкиной, видимо, просто не успевало за головкиной нервической активностью. Казалось, что даже мошкара не кусала эту вертлявую головку, так как не успевала на неё усесться.
– Такая тварь… – бубнил задрёмывающий от покачиваний автобуса Громов. Ему было уже плевать на мошкару, и та с благодарностью облепила квадратные скулы прозопублициста. Несколько мошек пытались приземлиться на нос, но Громов потряхивал головой в такт качающегося автобуса и делал в полусне странные носовые движения, резко и с глухим свистом выпуская из ноздрей воздух.
– Да всё у него было не по-человечески, и все писульки его такие ж мелкие, подлые. Всё строчил, всё всех дрянью считал, а сам-то, – Потникову теперь уже было нечего терять. Он переживал сейчас что-то вроде экстатического упоения, которое можно примерно описать так – все мосты сожжены, а правду никто не скажет, да так, чтоб ясно и рублёно, чтоб до каждой душонки дошло, чтоб знали! Потникова несло без поворотов и тормозов.
– А вы знаете, кто в полицию заявление на Иванова накатал, а? То-то, не знаете, а ведь Кривцов и накатал, чтоб подвинуть Иванова-то. То-то! Вот как он, уважаемый товарищ Кривцов, «избран-то» был, вот вам и досрочное избрание, единогласное. То-то! – Потников попытался изобразить на своём помятом лице нечто вроде иронии, но у него получилась такая страшная рожа, что по испуганным лицам собратьев литераторов Потников понял, что иронию лучше не изображать.
***
Впереди автобуса сидел и молчал Берёзкин. Они с Владиком Кривцовым были как бы друзья, и поддерживать беседу Берёзкину было вроде как неудобно.
– Да и вообще, что бы понимала эта пьянь бездарная, – успокаивал себя Берёзкин.
Хотелось поорать на всех, показать им кузькину мать.
Раньше он так бы и сделал, а потом пошёл бы играть дома на балалайке. Балалайка всегда успокаивала Берёзкина. Ещё с времён учёбы в Литинституте все знакомые знали об этой его странной слабости.
– Я настоящий сибиряк! – говорил Берёзкин на каждом литературном вечере и покачивал балалайкой, как бы дразня своих коллег.
Он и вправду считал, что игрой на народном инструменте приобщается к чему-то изначальному, по-язычески настоящему, а остальные просто ничего не понимают.
Но сейчас всё казалось дико бессмысленным и беспощадно наваливалось этой бессмысленностью на несчастную трезвую голову Берёзкина.
***
Приехали на кладбище. На территорию заезжать не стали и остановились на трассе, прижавшись к кладбищенской обочине.
По краям всё пространство кладбища заросло дикой полынью и коноплёй. Место выбрали подешевле, чтобы в глубь не тащить и по буеракам не мочиться. Дождь всё сучил и сучил, бросал на землю плевочками брызг, и так с самого утра. Кладбищенская земля расквасилась и выскальзывала из-под ног.
С трудом удерживая равновесие, выволокли и донесли до разрытой ямы гроб. Литераторы сбились в кучу в сторонке и обсуждали предстоящий поминальный обед. Некоторые похрапывали в автобусе, и будить их никто не стал, себе дороже.
Берёзкин подошёл к установленному на краю ямы гробу и немного приподнял крышку.
Постаревший мёртвый Владик Кривцов лежал повёрнутый затылком к одинокому зрителю, уткнувшись носом в гробовую подушку. Посередине гроба вверх выпирали крупные бугры натруженных многолетним сидением писательских ягодиц. В ногах у покойника набилась в один сплошной ком цветочная масса.
Берёзкин подумал, что сейчас Владик похож на лягушку, которая долго работала лапками, упав в горшок с молоком, но вместо горшка – гроб, а вместо сбитого куска масла – ком цветочного силоса.
– Эх, Владик, как жил ты дураком, так им и закопаем, – тихонько пробормотал Берёзкин и захлопнул крышку гроба.
И там, под захлопнутой крышкой, Владик Кривцов, прозаик, публицист, так и не определившийся сторонник то правых, то левых сил и уже бывший начальник Главного Писательского Управления, там, под захлопнутой крышкой гроба, Владик Кривцов перевернулся ещё раз – последний раз.
Берёзкин так и не узнал, что именно он, своей последней фразой помог другу улечься в гробу в нормальное человеческое положение.
– Забивай, – скомандовал Берёзкин гробовщикам. – И закапывай.
ТТ
Это началось прошлой зимой, когда у ТТ сломалась снеговая лопата.
Хотя можно сказать, что всё началось намного раньше, когда проснувшись утром и включив телевизор, ТТ узнал – страна теперь не идёт в светлое будущее, а находится в суровом и безжалостном настоящем. Самые продвинутые стали ужасными реалистами и истово верующими, а особо одарённые ритуально поджигали свои партбилеты на голубом глазу многочисленных телекамер, осводобившихся из цепких лап цензуры телевизионщиков.
Почитать заветы Ильича больше стало не нужно, да и вообще, это даже считалось (по умолчанию конечно) вредоносно для общественных ценностей. У мирового пролетариата отняли вождя и на скорую руку предали политической анафеме, а он уже, в свою очередь, утянул за собой и весь этот самый пролетариат в анафему социальную.
Как обычно бывает при переделах власти, то есть при разборках государственного масштаба, в первую голову поменяли основные правила игры. Конституция, в которой главной ценностью для государства гордо числился человек, была признана кроваворежимной и бесчеловечной.
ТТ узнал из телевизора, что теперь всё стало по-новому, что новый закон приказывает государству считать главной ценностью частную собственность и её, собственно, эту собственность – умножать, любить и лелеять. Так звучал новый завет времени.
В общем, всё как-то вдруг стало по-новому свежо и демократично.
И вот, по прошествии уже четверти века, у ТТ сломалась снеговая лопата – тогда-то всё и началось. Но вначале о том, кто такой ТТ.
Совпадение прозвища с известной маркой тяжёлого советского пистолета здесь скорее случайное, ведь ТТ, это было сокращённое от Тимофей Тимофеевич. В глаза говорили «Тимофеич», а между собой звали «ТТ». И всё же…
И всё же при определённом угле зрения случайность совпадения тяготела к закономерности. Тяготение это было оправдано в том смысле, что Тимофей Тимофеевич отличался феноменальной надёжностью и простотой суждений. Такими были его главные принципы и личные качества, которые проявлялись и в образе мыслей, и в решениях, касающихся дел повседневно-бытовых.
***
Снега в этом году навалило выше крыши, и ТТ уже шестой день откапывал периметр вокруг дома. Время было март, и всё начинало подтаивать, вот и торопился ТТ успеть до того, как снегогрязевой кисель начнёт подтапливать и подсиживать фундамент.
Как обычно он начал с обратной стороны, где за домом, под проседающими сугробами, лежала куча старого горбыля. Перебросав снег через невысокий заборчик, отгораживающий его территорию от соседнего участка, ТТ очистил последний угол фундамента. Беспокоиться было не о чем. Соседи с этой стороны давно съехали в благоустроенную ипотечную квартиру, а в дом приезжали только летом, как на дачу. Потому ТТ со спокойной душой и чистой совестью перебрасывал весь снег от своего дома в соседский сад.
Тимофей Тимофеевич был крепким сибирским дедом, этаким букрей. Много лет назад его жена отдала богу душу, и с тех пор ТТ жил один, почти не общаясь с родственниками. Твёрдый, как дуб, он всё делал сам, не доверяя никому и размеренно ведя своё небольшое хозяйство. Живности никакой в доме не водилось, а единственным и главным хозяйством ТТ были огород и маленькая бревенчатая баня.
Размеренно откалывая снеговой лопатой и бросая через плечо куски сугроба, ТТ прикидывал в уме, куда бы лучше скинуть снег с верандной крыши. Верандовую крышу он всегда оставлял напоследок, как бы на десерт – кидать оттуда было легко и приятно. Перед крыльцом образовывалась уже внушительная куча, но, в принципе, на неё можно было немного добавить, тем более, что бросать придётся сверху и получится даже немного за спину куче, почти на огородные ближние грядки. Да, бросать туда, определённо лучший вариант.
Решив так, ТТ подчистил последние слежавшиеся за зиму снеговые прослойки перед крыльцом и уже хотел отставить лопату, когда заметил сбоку ступенек забитый льдистым снегом угол. Он с силой ударил ребром лопаты по этому углу, но снегольдовая заморозка оказалось крепкой. Тогда ТТ немного расставил для устойчивости ноги и ударил ещё раз. Лопата щёлкнула и переломилась у самого основания черенка.
– Тьфу ты пропасть, – выругался ТТ и поднял с земли отломанный лопатный ковш.
Лопата восстановлению не подлежала, и ТТ досадливо покачав головой понёс части уборочного инвентаря в сарай. Там он снял с черенка остатки пластмассового лопатного ковша и отнёс этот бесполезный хлам на помойку перед домом.
Надо было покупать новую лопату. До пенсии оставалось ещё полмесяца, а снег с крыши веранды оставался несброшенным.
«Да надо ж так не вовремя-то», – ТТ примерился в уме и понял, что на новый инвентарь из остатков пенсии никак не удастся выкроить. Занимать у кого-то он привычки не имел, тем более сейчас, когда уже несколько лет жил на одну только пенсию. И всё же он решил сходить в магазин и присмотреться к ценам, благо хозяйственный находился на соседней улице. Денег с собой брать не стал, даже на всякий случай, потому что никакого такого «всякого» случая ТТ не планировал.
«Вот что это за лопаты сейчас стали делать, дрянь, а не лопаты», – думал он, идя по разбухающей от пористого весеннего снега улице.
«Ничего толкового придумать не могут, всё дрянь да дрянь. С такой лопатой ни в какой космос не улетишь, а то всё туда же они, на Марс собрались», – настроение ТТ сделалось серым, серединно-унылым и упрямо стояло на месте, не переходя в раздражение, но и не успокаиваясь. Проходя мимо конторы местного коммунального хозяйства, ТТ бросил взгляд на их крыльцо. С двух сторон от крыльца на стене белели листки с одинаковой надписью «Осторожно, сход снега с крыши!».
– Хоть предупредили, – пробормотал ТТ и усмехнулся находчивости работников ЖКХ.
Разумеется, все прекрасно понимали, что дело здесь не в той находчивости, о которой говорят «голь на выдумки хитра». В данном конкретном случае, дело было скорее в определённом коктейле из причин, основными ингредиентами которого являлись лень, воровство и хроническое презрение человека к человеку. Вот потому здесь уместнее обойтись вовсе не народной поговоркой про голь и хитрость, а литературной констатацией факта – пьют и воруют. Лопат для чистки крыш не было также как и людей для этой работы. Первое было следствием патологического чиновничьего воровства, второе – отсутствия культуры пития крепких спиртных напитков. В общем, ни работников, ни лопат – одни вывески. Зато вывесок было много.
Вот поэтому повторять вслед за классиком, что всё есть в Греции, а в России нет ничего, это тоже несправедливо. Ведь висели же по всем просторам необъятной родины Тимофея Тимофеевича бумажки с предупреждением о сходе с крыш снегов, а где-то так и ещё подробнее – о сходе с бесконечных покатых российских крыш снегов и льда одновременно. Бумажки висели везде и всюду. Уж чего-чего, а ксероксов и принтеров в стране было завались, что совсем не удивительно в эпоху господства юридическо-бюрократического вида человеческих отношений.
«Не по-человечески как-то, когда бумажку повесить только и горазды, сволочи, Сталина на вас нет, вот тот бы сразу навёл порядок», – ТТ усмехнулся ещё раз, но как-то совсем не весело.
Ему подумалось, что уж лучше вешать бумажки, чем людей, хотя порой и казалось наоборот, но эти повороты мыслей уже пугали своей террористическо-экстремистским уклоном.
В голове гудели и другие неясные мысли, но они все были как-то на дне, а если ТТ вдруг начинал пробовать эти мысли подумать, то взбивалась такая невыносимая муть, что лучше бы ничего со дна не доставал. Вообще, лучше всего выходило бормотать бессвязно себе под нос. Так никакие мысли со дна не задевались, а бессмысленность бормотания становилась чем-то вроде течения, по которому плыла лодка-язык. И никакое весло не баламутило воду, где на дне оставалось всё то, что и должно там, на дне оставаться, быть нетронутым и спать спокойно.
ТТ никогда не задумывался о вещах дальше самих вещей, потому что никакой необходимости в этом не возникало. Вот и сейчас организм среагировал на ситуацию просто и интуитивно понятно. Не поднимая внутренней донной мути, мысли проскальзывали сразу на язык и лились тихим бормотанием из-под носа наружу.
Уже завидев впереди двери хозяйственного магазина, ТТ понял, что приступ бормотания прошёл, и он молча идёт по расхристанной мартовской улице.
***
В хозяйственном магазине пахло пылью и машинной смазкой. Лопаты, новенькие, блестящие чистотой форм, стояли в отдельном углу.
ТТ протянул руку и взяв ближайшую лопату начал её вертеть и рассматривать. Всю поверхность красного пластика прорезали глубокие борозды, а на конце по всей ширине ковш обхватывался впаянной в пластик тонкой полоской металла.
– Да, – кумекал ТТ.
– Вроде смотрится ничего, дюжить должна.
Он отвёл руку с черенком немного назад и качнул лопатой, как бы счищая перед собой воображаемый снег. И в этот момент за окном хрустнуло, зашуршало и с грохотом и треском обломки льдистой слюды осыпались с крыши на жестяной уличный подоконник.
Тимофеич замер. Всё вдруг, на долю секунды, остановилось, и в этом замершем кадре остался только он, руки с лопатой и осыпавшиеся на громыхающий подоконник обломки слоистого льда. Внезапная, взбаломошная и нелепая мысль пронзила Тимофея Тимофеевича:
«Будто это я смахнул с крыши снег, будто я мыслью одной его сдвинул!»
ТТ нахмурился, поставил лопату на место и, молча и тяжело, вышел из магазина. До дома он шёл ни о чём особо не думая, так как пребывал в каком-то лёгком шокообразном оцепенении. Зайдя в калитку, уселся на крыльцо и стал думать о жизни.
***
– Э, отец, где здесь проезд на Ленина?!
Тимофеич поднял голову. Из-за калитки на него пялился, неопределённой, но мерзко маячившей внешности, мужик. Нагло ухмыляясь, мужик сплюнул и нетерпеливо переспросил:
– Дед, на Ленина где тут проехать, вроде где-то через Соцпроспект или Красноармейский, мы врубиться никак не можем, всё тут объездили уже, ты не в курсе? – мужик говорил без пауз, словно не особо вникал в слова, он будто читал какое-то бессмысленное заклинание, с помощью которого должен открыться если ни сим-сим, то, как минимум, проход к куче денежных купюр.
– Нету здесь никакого Ленина, и проезда нету, – ТТ встал и, повернувшись к наглой физиономии спиной, стал возиться с дверным замком.
Он слышал, как мужик ещё раз сплюнул, потом хлопнула дверца машины, и загудел, удаляясь, мотор.
***
– Что это за привычка, через забор орать, совсем никакого приличия не осталось…
ТТ открыл дверь, зашёл на веранду и посмотрел на старый настенный календарь, где уже много лет маячила иллюстрация к международному дню трудящихся. Обозначенные чёрными штрихами фигуры людей изображали трудящихся, над головами которых был растянут во всю ширину календарного листка транспарант «Мир! Труд! Май!». Выше, по центру, стояла гордая единица, упиравшаяся своей единственной циферной ступнёй в слово «май».
Подойдя к календарю, ТТ потрогал пальцами изображение единицы и вдруг ему пришла в голову забавная идея:
«А что если повесить у себя на заборе табличку, будто здесь есть собака, такая огромная и угрожающая, так и орать через забор отобью привычку у всяких наглых рож».
***
Повозившись в сарае, он отыскал подходящий кусок фанеры. Выровняв его ножовкой и отшоркав наждачной бумагой, ТТ повертел будущую табличку перед собой и остался доволен результатом. Теперь надо было придумать текст.
– Осторожно, злая собака, – проговорил ТТ вслух и пожевал губами, словно пробуя на вкус угрожающую степень остроты фразы.
– Нет, как-то это общо, надо бы поконкретней, – ТТ представил рожу неопределённого мужика и понял чего не хватало в придуманном тексте.
– Осторожно, во дворе злая собака! – так звучало лучше и конкретнее, но всё равно как-то не удовлетворяло чувства раздражения, которое вызвал наглый мужик.
– А с чего это вдруг мне надо о нём сто раз беспокоиться, если не совсем идиот, то и так будет ясно, что лучше проявить осторожность, – слово «осторожно» было отброшено за ненадобностью и осталось лаконичное и краткое предупреждение «Во дворе злая собака».
– Просто и понятно, прямо в самую точку, – ТТ скривил губы и представил нерешительные глаза непрошенного гостя, который прочтёт табличку. На душе стало легко и спокойно.
Когда-то, ещё при живой жене, к ним изредка привозили внуков, и с тех времён, в коробке с разным бытовым хламом, осталась упаковка с деревянными буквами алфавита. Много лет назад маленькие внуки выкладывали из этих букв разные простые слова типа «мама», «баба», но сейчас многие буквы были утеряны. Эта утерянность немного напрягала и вызывала внутреннее беспокойство. ТТ тщательно разобрал хлам и отыскал упаковку с алфавитом. Высыпав перед собой на стол деревянные буквенные фигурки, он принялся выуживать пальцами буквы и складывать из них нужную фразу.

