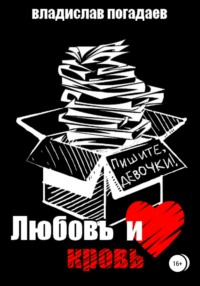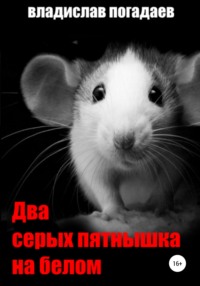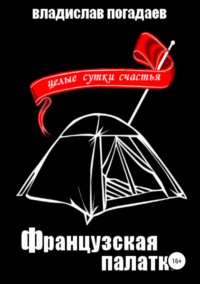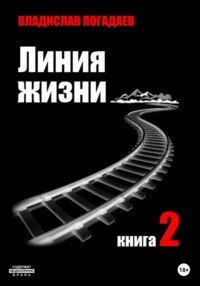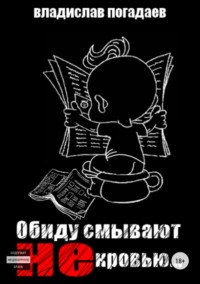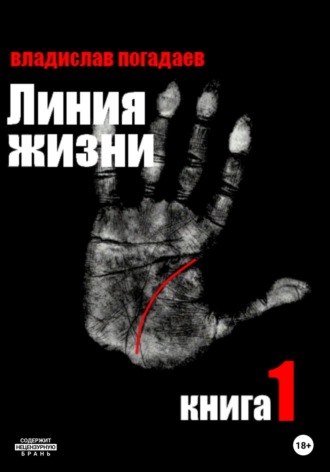 полная версия
полная версияЛиния жизни. Книга первая
Потянулись последние месяцы заключения. За оставшееся время я старался заработать как можно больше. В отряде было заведено: если человек готовился к выходу на свободу, ему старались подкидывать более высокооплачиваемые операции. У нас в бригаде заработок и так был весьма приличный, но ребята решили, чтоб часть общего объёма я закрывал на себя.
И вот, наконец, тридцатое октября! По традиции заварили ведро чифира. Подошли кореша из других цехов: Игорь Иванюк – Хохол, Коля Козловский, Коля Мишунин и многие другие…
После обеда позвали на выход. На вахте произвели досмотр, чтоб чего не вынес. Бухгалтер выдал заработанные деньги, если не изменяет память, тысячу двести восемьдесят шесть рублей. Открылись по очереди несколько решётчатых дверей, и я оказался на воле.
Свердловск. Это сладкое слово «свобода». 30 октября 1969 года
Как оказалось, встречала меня одна лишь бабушка с совершенно мокрыми от слёз глазами. На душе стало одновременно радостно, тревожно и, чего уж скрывать, обидно – состояние какой-то оглушённости.
Внезапно заметил бегущего человека, в котором с радостью узнал Саню Костоусова. После освобождения он снова трудоустроился на кладбище и вот теперь, отпросившись с работы, спешил меня встретить.
Втроём мы дошли до остановки, усадили бабушку на троллейбус и, невзирая на её волнения и переживания, отправили к тёте Физе, а сами двинули к Максу – в их знаменитый дом на Ленина, 5.
Когда Макс, открыв двери, увидел нас – побагровел от стыда и начал объяснять, что просто забыл о дне моего освобождения. Саня заматерился.
Так как в конце октября на Урале уже довольно прохладно, а я был в одном костюме ещё тех, прошедших, времён, мне тут же подобрали какой-то полушубок, объяснив, что на сегодняшний день это – самый модный прикид, и мы ринулись в детский сад.
Дело в том, что пока Саня отбывал срок, его подруга Галка родила сына, который теперь уже ходил в ясельную группу. Забрав пацанчика, отвезли его на улицу Металлургов – к «деду с бабой», а сами, поймав такси, погнали на Уралмаш – там, на улице Победы, находилось ателье полуфабрикатов «Силуэт», котировавшееся достаточно высоко. В «Силуэте» подобрали два костюма: серый и светло-коричневый, рассчитались по прейскуранту и, накинув сверху, назначили готовность на следующий же день. Затем бегом ринулись в ближайший магазин.
В шестьдесят девятом году выбор продуктов был ещё довольно приличным, поэтому мы, быстро набрав всего, на что только глянул глаз, потопали к Сашке обмывать мой выход на свободу.
Саня в это время проживал уже на Эльмаше, у кинотеатра «Заря»: отец обеспечил его отличной однокомнатной квартирой с высокими потолками и большой кухней. Там нас ждала Галина, которая много знала обо мне со слов мужа, поэтому встреча и знакомство произошли очень радушно и непринуждённо.
Пока разбирали покупки, раздался звонок – пришёл Юра Волков из нашей колониальной конторы. Юра освободился следом за Костоусовым и тоже устроился работать на кладбище. В этот день он подменил Сашку: отпустил встречать меня, а, покончив с делами, вместе со своей подругой примчался на нашу ставшую постоянной явку.
Как провели время, рассказывать не буду. Было весело. Вспоминали наших корешей, пили за их и своё здоровье. Поздно вечером проводили Макса и улеглись спать. Наутро Юра с Саней отправились на работу, а я – на Посадскую, где теперь жили тётя Физа, дядя Ганя и Ляля со своим сыном Костей – плодом её недолгого замужества – и где ждала меня моя бабуля. В душе я понимал, каково ей сейчас: только-только встретила внука и тут же отпустила неизвестно с кем и куда! Приняли меня очень тепло.
После чая и непродолжительных расспросов мы с бабулей поехали в областной суд, где работала на разборе кассационных дел Вера Максимовна. Её муж уже несколько лет как перевёлся в Управление Свердловской железной дороги. Вера строго-настрого наказала бабушке, чтоб я, как только освобожусь, немедленно появился у неё в суде.
Окинув меня коротким взглядом, Вера Максимовна улыбнулась и начала расспрашивать о дальнейших планах. Естественно, я поделился всем: что твёрдо решил не возвращаться в Серов, а остаться в Свердловске, что собираюсь устраиваться на работу и поступать в институт. Умолчал лишь о том, что хотел бы как-то собрать семью.
Внимательно всё выслушав, она сказала:
– Владик, я знаю, что у тебя есть много денег, – по тем временам это была действительно огромная сумма. – Я завтра позвоню, ты съездишь, внесёшь первый взнос, тысячу двести рублей, и сразу въедешь в двухкомнатную кооперативную квартиру.
Я, конечно, не предполагал такого развития событий, да и в планах у меня ничего подобного не было, а – самое главное – не было уже тысячи двухсот рублей…
– Владик, ты меня понял? – спросила Вера Максимовна.
Я, выдержав для порядка небольшую паузу, ответил:
– Не могу я этого сделать. Я пять лет ничего в жизни не видел!
Вот так и закончилась наша первая после освобождения встреча, из которой я вынес следующее: в хороших делах Вера Максимовна всегда меня поддержит. И в скором времени это подтвердилось.
А пока я ушёл в загул, тем более что помощников в этом непростом деле было хоть отбавляй.
Время от времени вместе с братьями появлялись на Платине: навещали бабушку, да и местным не давали забыть о себе – отжигали так, что только шуба заворачивалась.
В один из таких приездов повстречал на станции, местном Бродвее, дядю Пашу Великанова, которого знал с самого детства, и который пёкся обо мне едва ли не больше, чем родной отец.
– Владик, – старик посмотрел на меня с укором, – ты же уже несколько раз был на Платине, почему же ни разу не зашёл ко мне?
В глазах его была такая тоска, что я растерялся и ничего не смог ответить. Было стыдно, ведь дядя Паша, даже зная все передряги, в которых мне пришлось побывать, продолжал любить меня.
Я глянул на часы: до прихода поезда оставались минуты. Мы обнялись, старик и молодой оболтус. Дядя Паша поцеловал меня в щёку и, торопясь, заговорил:
– Владик, я уже старый, но я жду тебя. Я покажу тебе такие залежи золота…– он пытливо глянул мне в лицо,– но остальное – за тобой…
Подошёл поезд, и я вскочил на подножку вагона…
Больше мы не виделись: вскоре дядя Паша умер, так и не успев раскрыть свою тайну…
В пятницу вечером к нам присоединился Боря Бриксман, и мы всей конторой зарулили в ресторан «Кедр». Это был один из самых популярных ресторанов в центре города, но поскольку музыканты «Кедра» являлись хорошими Бориными знакомыми, проблем со столиком не возникло. К тому же, ещё один из «коробейников», Володя Отмонаки, недавно освободился и работал здесь официантом.
Погуляли мы тогда знатно. Ребята-музыканты разделили с нами не только водку, но и наше хорошее настроение, а один из них даже выразил желание поучаствовать в моей судьбе – помочь устроиться на семьдесят девятый завод. Как говорится, всё зависело от полноты налитого стакана, а его энтузиазм подкреплялся видом батареи бутылок на нашем столике.
Когда я появился в отделе кадров номерного оборонного предприятия, то сразу понял, что мне здесь не рады, и в специалистах с такой биографией завод не нуждается.
Мой доброжелатель почесал лысину и назначил следующую встречу в ресторане, обещая к тому времени ещё что-нибудь придумать. Я сообразил, что данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока у меня не кончатся деньги. Мой новый друг просто не полагал, что за свой недолгий век я повидал мошенников куда крупнее его.
Завод «Химмаш». 10 декабря 1969 года
Вечером того же дня я встретил с работы Борю Бриксмана и объяснил ему ситуацию. Еще тогда, в ресторане, мы договорились встретиться, если с предложением музыканта ничего не выгорит. Посмотрев на мою кислую физиономию, Боря улыбнулся:
– Не грусти, что-нибудь придумаем. Поехали.
В то время Борис жил в районе Химмаша. Приехав на место, мы зашли в магазин, купили две бутылки водки и отправились к Бориному приятелю, который проживал недалеко от заводоуправления.
Дверь нам открыл довольно приятный мужик. В гостях у него сидел ещё один, постарше, как я узнал чуть позже, это был Бучнев Леонид Васильевич, начальник отдела капитального строительства завода «Химмаш». До перехода Бориса на работу в колонию Бучнев был его непосредственным начальником.
Быстро соорудили стол. Сидели весело. Боря рассказал приятелям, как я появился в их компании, я тоже кое-что о себе добавил, не забыв упомянуть о том, что хотел бы остаться в Свердловске.
На прощание Борис сказал Леониду Васильевичу: «Возьми этого парня к себе – не пожалеешь». И буквально через день в условленное время я пришёл к Бучневу в ОКС, откуда мы с ним направились в отдел кадров, где я без всяких проволочек получил два направления: на медкомиссию и в общежитие.
Нужно было оформлять паспорт и прописку. И тут в дело вмешался начальник милиции Чкаловского района, который дал мне десять часов на то, чтобы я покинул пределы города. Понять его можно, ему бы со своими преступниками справиться, а тут кадр из колонии, который неизвестно чего за эти пять лет нахватался.
Пришлось мне с этой неприятной новостью срочно идти в Облсуд к Вере Максимовне. Договорились, что я подойду к ней на следующий день, а она за это время попытается что-нибудь сделать.
На следующее утро Вера Максимовна отправила меня к судье Решетникову, кабинет которого находился в том же здании Чкаловского райотдела, только с другого входа. Услышав мою фамилию, Решетников велел возвращаться обратно к начальнику милиции, заверив, что на этот раз вопрос будет решён положительно.
Так и произошло. В кабинете начальника райотдела как раз заканчивалась планёрка – так мне, по крайней мере, показалось, судя по количеству присутствующих. Отпустив подчинённых, начальник сказал:
– Разрешение на прописку я тебе дам, но, не дай Бог, с твоей стороны хоть какое-то правонарушение – упрячу на полную катушку!
В ответ на это я с улыбкой гарантировал, что такого удовольствия ему не доставлю. Уже на выходе гражданин начальник остановил меня вопросом:
– Скажи, кто тебе помогает в Облсуде?
– Зачем это Вам?
На том и расстались…
Так оказался я котельщиком завода «Химмаш». Бригада, в которую определил меня Леонид Васильевич, встретила нового работника довольно прохладно: они знали, откуда я появился, но в просьбе начальнику ОКСа отказать не могли. Правда, это скрытое недоверие улетучилось через весьма непродолжительное время: я брался за любую работу, помогал каждому. Тем более, близился срок завершения проектного задания, пахали мы без выходных, в иные дни по двенадцать часов, и до конца года завершили программу – выпустили и сдали ОТК всю запланированную продукцию.
Ещё в ноябре, в перерыве между гулянками, я появился в Серове. Встретился с Рудаком – он ведь тоже освободился, повидался с друзьями и боксёрами, которые тренировались вместе с нами. За пять лет многое изменилось, некоторые из знакомых вообще уехали из города. Уехал и Вася Ханов – на Украину, на ферросплавный завод, который тогда только входил в строй. Уехал, предварительно расписавшись с Томкой Симаковой, дождавшейся его из армии.
В первый же день приезда мы с Валькой решили навестить Глафиру Михайловну, мать Васьки. Где-то около шести вечера притопали на автобусную станцию, но, не дождавшись автобуса, решили идти пешком огородами – так короче. В ноябре на Урале темнеет рано, но в этот день выпал снег, и потому было довольно светло.
Пробираясь через огороды, краем глаза заметили какого-то мужика, двигавшегося в том же направлении, что и мы. Что-то знакомое почудилось мне в нём, и тут, перелезая через забор, я зацепился за гвоздь полой своего шикарного итальянского пальто – в Свердловске неплохо упаковался на барахолке – и выдал естественную матерную реакцию. Мужик, видимо, тоже узнал меня, мы сбежались: это оказался Монгол. Он только что освободился, отбыв свои пять лет по подозрению в краже велосипеда.
Что тут было! Стоим в снегу, обнявшись втроём, чувства переполняют, да надо бежать дальше. Разошлись, договорившись как-нибудь собраться, посидеть, но это была наша последняя встреча с Монголом. И хотя после я частенько бывал в Серове, свидеться нам так и не довелось.
Глафира Михайловна встретила нас очень радушно, плакала, рассказывая о Васе, которому оставался ещё год. Сев по малолетке, Васька имел право на УДО, да не случилось: сказывался бойкий характер и, как следствие – нарушения, порой даже незначительные, но при досрочном освобождении учитываются и они.
В Новый Год отметился в Полевском, где теперь – в семье дяди – жили мои братья Валерка и Толик. Праздник справили вместе.
Вернувшись после выходных на работу, узнал, что бригада наша расформирована. Троих, самых молодых, в том числе и меня, оставили в цехе на подсобных работах.
Январь прошёл скучно: выполняли какие-то разовые заказы, заработка, естественно, не было. Февраль тоже начался ни шатко-не валко. В душе зрело и нарастало раздражение: к такой организации труда я не привык – работа в колонии приучила меня к чёткому производственному распорядку, а тут приходишь утром на работу и не знаешь, чем будешь заниматься, может, и пробездельничаешь целый день.
По воле случая
Я не терял связи со своими «однополчанами», и на одной из встреч Юра Волков посоветовал мне уволиться с завода и идти работать в трамвайно-троллейбусное управление: он, оказывается, до заключения работал в Октябрьском троллейбусном депо и неплохо знал условия труда.
Предварительно договорившись в отделе кадров депо о трудоустройстве – а им очень нужны были электрослесари – я подал заявление на увольнение. Пройдя все необходимые собеседования и отработав положенный срок, получил обходной лист.
И вот бегаю по заводу, подписываю обходную и на центральной аллее встречаю Леонида Васильевича. Остановились, поговорили. Мы вообще-то и раньше довольно часто пересекались, но жаловаться я считал неприличным – человек и так проявил ко мне такое участие! В этот раз он тоже пытался узнать, как дела, есть ли работа, но я увёл разговор в сторону, ведь в кармане уже лежала обходная. На прощание Леонид Васильевич сказал:
– Владик, погоди немного. Ты будешь работать в лучшей бригаде завода, я тебе обещаю. И заказы всегда будут.
На том разошлись. Мне было очень стыдно, что смалодушничал и не сказал Леониду Васильевичу о своём увольнении, а ведь он так старался мне помочь!
До сих пор живу с чувством вины. Спустя десять месяцев, уже работая в депо и учась в институте, я позвонил ему домой: хотел сообщить о своих успехах, доказать, что выполнил данное обещание и становлюсь нормальным членом общества, но Леонида Васильевича уже не было в живых – скончался скоропостижно.
Но это будет спустя десять месяцев, а пока, уволившись с «Химмаша» я проходил стандартную процедуру оформления на работу в депо. И опять та же проблема: общежитие и прописка. У Ляли и дяди Гани я мог пожить только временно, несколько дней: больше не позволяла совесть, а общежитие ТТУ было забито под завязку. Так мне, по крайней мере, сказали. И тут с Платины приехала моя бабуля: чуяло, видно, сердце, что не всё благополучно у её любимого внука!
Рано утром мы с бабушкой ринулись в район депо – на улицу имени красного командира Щорса. Там, в верхнем её конце, было много деревянных частных домов, вот в двери одного из них мы и поскреблись.
– А ты как здесь оказался? – на пороге дома возник Саша Старков. Примерно за год до этого он, окончив техникум, устроился вольнонаёмным мастером в ИТК-2, в наш второй цех, где мы, естественно, и познакомились. Надо было видеть Сашкины глаза, когда он узрел на пороге меня с какой-то бабусей. Но ещё больше вопросов появилось, когда из-за его спины высунулась такая же, как моя, старушка, и обе они со слезами и невнятными вскриками бросились друг другу на шею, а затем ушли в комнату.
Чуть позже всё выяснилось. Оказывается, ещё в ранней молодости наши отцы были неразлучными друзьями, а наши бабушки – близкими подругами. И вот как довелось им встретиться! Откуда бабуля узнала адрес – непонятно, скорее всего, через кого-нибудь из земляков. Но на этом сюрпризы не закончились: оказалось, что близкая родственница Старковых работает в ТТУ, и где бы вы думали? Правильно! Руководит общежитиями! Как говорится, не было ни полушки, да вдруг алтын: бабушка вела меня в этот дом, чтобы устроить на квартиру, но буквально на следующий день всё завертелось, и я по письму Управления был поселён в общежитие завода имени Калинина на улице Баумана, 9.
Вот так, в сущности, по воле случая попал я в трамвайно-троллейбусное Управление, с которым оказался связан тем или иным образом на долгие сорок лет.
ТТУ. Октябрьское троллейбусное депо. 27 февраля 1970 года
В депо все виды ремонта и обслуживания подвижного состава – в зависимости от сложности и объёма – были зашифрованы под номерами. Меня определили в бригаду ремонта №1. Руководил бригадой Миша Прокофьев. Он дорабатывал последние годы до пенсии и пользовался непререкаемым авторитетом не только у начальства, но и среди рабочих.
Стажировал меня Гена Петров, который устройство троллейбуса знал до винтика. У него было какое-то невероятное чутьё: когда машина становилась на ремонт, и Гена знакомился с книгой заявок, то сразу видел, чем «страдает» этот троллейбус – сразу находил узел или узлы, бывшие виновниками отказов.
Бригада приняла меня нормально, и уже через несколько месяцев я стал здесь своим человеком. Одного только не мог понять и принять: как только у мужиков появлялись деньги – а это случалось дважды в месяц, после аванса и получки – они тут же сбрасывались и уже в обеденный перерыв принимали на грудь. В другие дни по очереди занимали у водителей, и повторялось то же самое. Дождаться конца смены наши трудяги не могли. Пили на работе и другие бригады. Некоторые работяги, в силу своего хрупкого здоровья, к концу смены нажирались так, что из цеха их выводили под белы рученьки. Для меня такое было дико: ведь готовили не грузовые машины, а транспорт для перевозки людей!
За всю свою жизнь я так и не научился пить на работе в рабочее время. После работы – пожалуйста, была бы только компания соответствующая.
Через некоторое время после трудоустройства начальником цехов ремонта назначили Владимира Георгиевича Сергеева – перевели из бригадиров. Человеком он был незаурядным: таких в коммунальном хозяйстве страны, а ТТУ относилось к Министерству ЖКХ, набралось бы два или три на весь огромный Советский Союз. Владимир Георгиевич являлся Кавалером Ордена Ленина и Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. При этом оставался абсолютно простым и скромным мужиком. Я был для него просто Владик, а он для меня – Володя, несмотря на довольно большую разницу в возрасте. Вот такие взаимоотношения. А то, что он сыграл в моей жизни огромную роль, просто неоспоримо.
Подходило первое лето моей работы в депо. Лето – пора отпусков, но я-то поступил на работу в феврале, и мне, разумеется, ничего не светило, а намеченный жизненный план надо было выполнять: готовиться к поступлению в институт. И тут Володя предложил мне в летний период поработать на линии.
Если в цехах он ещё как-то затыкал кадровые дыры, образовывающиеся вследствие отпусков, то линия – когда у троллейбусов случаются отказы и поломки на маршруте – была раздета. Людей там и раньше не хватало, потому что работа шла в две смены: до последнего троллейбуса, а с наступлением сезона отпусков – тем более. Отказать Сергееву я, естественно, не мог. Мы очень тепло относились друг к другу: Володя знал про мои жизненные зигзаги, но воспринимал это как-то с пониманием.
Кроме того, работа на линии устраивала меня тем, что в периоды затишья, когда всё оборудование было исправно, я мог сидеть в здании аварийной службы и штудировать учебную литературу. Таким образом, к первому туру экзаменов, который проходил в июне, готовился на работе и дома: многое было подзабыто, так как школу я закончил ещё на первом году заключения, да и вуз для поступления выбрал один из самых престижных в Свердловске – Институт народного хозяйства, филиал Московского института имени Плеханова.
Тяга к знаниям. 1970 год
Первый экзамен, физику, сдал на «отлично»: попал удачный билет с вопросом по электрике. А вот математику письменно – завалил. Расстроенный, но не сломленный я забрал документы и через месяц подал их снова. Два месяца на работе и дома решал задачи и примеры.
И снова первым экзаменом была физика, которую я сдал на «пять», вторым – математика письменно. Задание выполнил моментально и был почти полностью уверен, что всё решил правильно, поэтому сидел и дожидался конца экзамена. Подошёл преподаватель-наблюдатель, глянул мне через плечо и предложил в последнем примере упростить ответ, но до конца экзамена я, к сожалению, так и не смог этого сделать! Тем не менее, получил пять!
Следующий экзамен – математика устно. Особой тревоги не испытывал. Билет отчеканил уверенно, и тут экзаменатор задал дополнительный вопрос, на который я не ответил. Он улыбнулся:
– Что, на «пять» тянуть будем или «четырёх» хватит?
Я, не желая испытывать судьбу, согласился на четвёрку.
Последний экзамен – литературу – предмет непрофильный – нужно было сдать хотя бы удовлетворительно, а так как в аттестате по литературе у меня была пятёрка, надеялся, что справлюсь. И справился. Но когда пришёл ознакомиться со списком зачисленных, своей фамилии не нашёл. Это показалось странным, так как по моим расчётам баллов должно было хватить, тем более что поступал я не на дневное, а на вечернее отделение!
Что делать, куда бежать?
И тут вспомнил про Лёву Петрова, который отбывал наказание как раз по делу о приёмных экзаменах и отлично разбирался во всей этой кухне! Он уже год, как освободился и работал в УФАНе, а его телефон и адрес я знал: мы и после освобождения связи не теряли. С утра пораньше я вытащил Лёву из постели, и в тот же день он был в приёмной комиссии.
Как его допустили, помогло ли личное обаяние или сработали старые связи – не знаю, но результат меня не обрадовал. Оказалось, для проходного балла нужно было набрать три пятёрки – вот такой конкурс. К тому же, на вечернее отделение поступали абитуриенты, отслужившие в армии, а они, по положению, зачислялись вне конкурса, достаточно было сдать экзамены без завалов. Моя же служба сроком пять лет, к сожалению, таких преимуществ не давала.
Правда, Лёва обнадёжил меня, пообещав, что я буду зачислен кандидатом, а позднее, после первой-второй сессии, когда начнутся отчисления – студентом. Всё точно так и произошло, и после первой же сессии я стал полноправным членом студенческого сообщества.
В этот же период со мной произошли два забавных случая, о которых я не могу не вспомнить.
* * *
Первый приключился, когда я направлялся на экзамен по физике. Только я подошёл к аудитории, как откуда-то сбоку мне на шею бросился парень, как оказалось, мой сослуживец по ИТУ-2 Коля Мишунин – Мишуня – человек неординарный и, безусловно, талантливый. В колонии он выделывал такие номера – книгу можно написать.
Работал Коля в цехе, где выполняли самую точную работу: прессформы для пластмасс, штампы и тому подобное. Он был отличным специалистом и организатором, но часто попадал в ШИЗО за всяческие выходки, поэтому срок свой – семь лет – отсидел от звонка до звонка.
Ну, к примеру.
Однажды в колонию прибыла высокая комиссия, которая знакомилась с условиями труда заключённых. Не показать им гордость ИТУ-2 – инструментальный цех, где с очень высоким качеством изготавливались сложнейшие прессформы и штампы, было бы просто кощунством. И надо ж такому случиться, что именно в этот ответственный день Мишуня – мастер и центральная фигура данного производства, раздобыл где-то водку и напился вусмерть. Ну, не доложили бедолаге своевременно о прибытии важных гостей.
Чтобы он не светился и не испортил, часом, впечатления от экскурсии, зэки уложили нарушителя режима спать в кладовку с металлическими заготовками, бросив на пол пару телогреек – для комфорта. Дверь закрыли на висячий замок.
Не знаю, какие сны видел Коля во время этого принудительного отдыха, но проснулся он именно тогда, когда начальник цеха Цепаев показывал уважаемым гостям с большими звёздами на погонах свой замечательный цех и демонстрировал производимые там изделия. И вот как раз в тот момент, когда члены комиссии внимали рассказу начальника о секретах производства, где-то за их спинами раздался страшный удар, за ним – другой и третий.
Начальник сразу потерял дар речи, а высокие гости с перекошенными от неожиданности лицами уставились на дверь, которая содрогалась под мощными ударами.