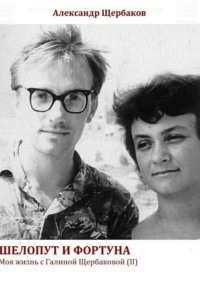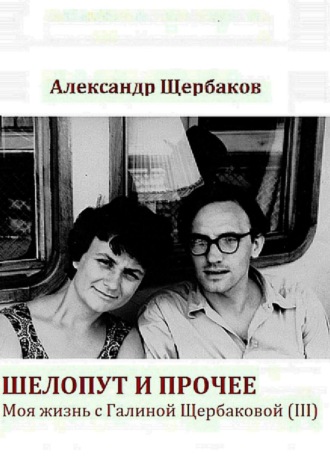 полная версия
полная версияШелопут и прочее
– Сергей Львович! «Радио-М» – это Радио «Эхо Москвы».
…На страничке истории на сайте «Эха Москвы» значится такая хронология: «9 августа 1990 г. Регистрация радиостанции как средства массовой информации Моссоветом на основании «Закона СССР о печати», вступившего в действие 1.8.90. 22 августа 1990 г. 18:57. Первый эфир».
Что касается первого эфира, тут никаких сомнений нет. А вот насчет регистрации… Может, что-то с памятью моей стало, но все эти годы я жил с убеждением: вольнолюбивая идея «Ассоциации» поскорее выйти, а уж оформить – как получится – восторжествовала в своем классическом виде. А может, сайт «Эха» создавали не всегда по факту, а на основании имеющихся документов? Как раз в девяностом, помню, когда я толкался в многочисленных очередях при регистрации трудового коллектива как нового учредителя «Огонька», я там не раз слышал народную мудрость: «Документы должны быть оформлены как надо – для суда». Что будет суд, как-то никто не сомневался. Как и в том, что для жизни без суда никаких документов не требуется.
Помню, как радостный Корзун принес мне маленькую кассетку:
– Вот, джинглы привезли.
Я послушал столь долгожданные заграничные треньбреньки. Так что, вот без этих ампутированных звуковых клочочков мы не могли выйти в эфир?!
Сергей, простите мне мою тогдашнюю темноту! Виноват. Сейчас-то я понимаю…
Вся творческая подготовка к выходу велась где-то в таинственной корзуновской радиостране. Мне почему-то казалось, что там все заваливается, ничего не получается, что так быстро невозможно сделать нечто грандиозное, называемое радиостанцией, что это вообще невозможно сделать обыкновенным людям…
Тем не менее, я пошел к нашей завредакцией и попросил обеспечить меня каким-никаким радиоприемником. Она откопала где-то донельзя потрепанный «Панасоник», я пораньше ушел домой, по дороге купил батарейки… Навел рисочку на записанную загодя среднюю волну. Сердце почему-то колотилось, как (наверное) перед парашютным прыжком. Вдруг заиграла какая-то малопонятная музыка («Это что-то не то!»), кончилась на какой-то, как показалось, нелогичной ноте и… вынырнул красивый, очень красивый, до спертости в горле, голос Корзуна. Что он говорил, уже не имело значения.
В моей жизни было несколько событий и дел, которые, мне кажется, могут служить ее оправданием. И одно из таких – касательство к рождению «Эха Москвы».
«Акционерное общество «Эхо Москвы» приглашает вас принять участие во внеочередном собрании акционеров АО «Эхо Москвы», которое состоится 15 апреля, в пятницу, в 18:00 по адресу Новый Арбат, 19. В повестке дня: принятие в состав акционеров АКБ «Столичный» и ТОО «Группа МОСТ»; об увеличении уставного капитала…» И т. д.
Четыре года я, как представитель акционера – журнала «Огонек», получал такие извещения. На обороте именно этой неровно оборванной факсовой бумажки – пометки, сделанные мной «на автомате», по привычке выявлять в звучащей речи фактические сведения: Всего – 25500000 руб. (2550 акций). «Мост» – 6250000; «Столичный» – 6250000; Ассоциация «Радио» – 800000; Гарри Каспаров – 3540000…
То был один из поворотных моментов в истории радиостанции. Окажись ее капитаны недотепами («недотепство и наша современность»!), на этом бы она, история «Эха», и кончилась. Вспомним, многие наши друзья-товарищи встали во главе средств массовой информации на волне энтузиазма, перестройки, начавшейся было свободы слова. Но в практической деловой жизни упустили руль, а с ним – и принципы ответственной журналистики. «Эховцы» тогда грамотно провели акционирование, превентивно выстроив оборону от атак пиратов самого разного толка. И, не растеряв профессионального достоинства, довели свой корабль до наших дней.
Помню, в первый год жизни станции мне позвонил Сергей Корзун (а может, и директор) и сказал, что им не хватает 100000 рублей на срочный ремонт. Бухгалтерия «Огонька» на другой же день перечислила деньги. Задним числом заключили договор на эфирную рекламу журнала. «Огоньку» в то время реклама не требовалась. О чем мы и сказали «Эху». Однако нет, вскорости ко мне пришла симпатичная девушка, принесла прослушать три или четыре ролика. Тексты были хорошие, с юмором. Девушка радовалась: «Ой, а мы боялись, что вам не понравится». Запомнилась музыкальная шутка, более года звучавшая на волне станции: «И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все лежал «Огонек».
Мне нравится думать: «Огонек» той поры, можно сказать, передал «Эху» эстафету журналистской честности, смелости, талантливости.
Я начал главу впечатлениями о памятных августовских днях 1991 года. Ими же и окончу эту ее часть. Если в архиве канала сохранились записи новостей тех часов, то там можно обнаружить сообщение: «Нам позвонил из «Огонька» Александр Щербаков и сказал: если закроют «Эхо Москвы», то «Огонёк» примет всех сотрудников радиостанции в свой штат». В журнале мы уже обговорили это. Было ясно: в случае победы ГКЧП у «Огонька» гораздо больше шансов выжить, чем у молодого безбашенного «Эха…» А еще раньше, в пору вильнюсских событий, когда «Эхо…» провело сенсационный репортаж из окруженного войсками литовского парламента, мы пришли на Октябрьскую улицу, дом 7, чтобы пожать руки коллегам, подбодрить их. Это был, помнится, выходной день, и нас тогда встретили Сергей Корзун и Татьяна Пилипейко…
V
«Отряд коммандос» (помните эффектную метафору Володи Чернова?) оказался не у дел. История обнулила значение почти всех процессов, казавшихся до известного момента очень важными. Мост был взорван досрочно – но не этой командой, а той, кремлевской, что обозначила себя четырьмя согласными буквами: ГКЧП.
Что делать? Вопрос, который встал перед отрядом «взрывателей». И не только перед ним. Вспомним и о «сдувшихся» «Московских новостях», о сошедшей на нет «Литературной газете»… По сути, одной из первых жертв акции кремлевских героев оказался Коротич. Но, может быть, для талантливого литератора и человека, единственного, кто в нашей стране получил самую престижную в журналистике премию – звание «Международный главный редактор года», уход из «Огонька» был благом?
Его дарования в предшествовавший период пришлись как никогда к месту и ко времени. Удивительная была пора: история еще раз, после хрущевской оттепели, породила в стране журналистику, невиданную для целых поколений людей – называвшую вещи своими именами. Оторопелому народу диковинка понравилась. И выяснилось: в ряду трех-четырех достойных изданий «называть кошку кошкой» удавалось лучше именно «Огоньку». Это умение и было динамитом «взрывателей». От него – фантастические тиражи и, можно сказать, ненормальная, прямо-таки попсовая популярность многих «огоньковцев». Журналистский мир всего мира признал этот феномен заслуживающим внимания, отдав его творцу лавры «главного» главного редактора.
Бесполезно гадать, что бы он делал в совершенно новых условиях. При отсутствии ЦК КПСС, который он то и дело дурачил, то прикидываясь простачком, то «верным ленинцем»; денег на выпуск издания; дефиците бумаги для печати; фактическом упразднении подписки и вымирании «своих» читателей: тяжко выживающим «россиянам» было не до чтения изобличений. Уловить их сегодняшний интерес, зацепиться за него, создать новый «контент» прессы в соответствующей ему форме – вот что всего больше занимало остававшихся в профессии журналистов. Кто-то приветствовал начавшееся обуржуазивание ее интересов и тематики, кого-то от него подташнивало…
Главное, впервые в жизни людей появилась политика. Не примитивное одно из двух: безмозглое упование на казенных «веру, царя и отечество» – или противостояние им, опостылевшим, – а выбор собственного разума в спектре духовных и социальных ценностей. По сути – своего Я. Далеко не всем это было под силу. В том числе и журналистам. Ответственные издания, продолжая выходить, вынуждены были искать свою линию. Что опять же означает – и самих себя. В каком-то смысле это было золотое время: центрам силы, одуревшим от мгновенной перемены общественного магнитного поля, какое-то время было не до журналистики. Редакции определяли курс без давления тяжкого атмосферного столба и почти без земного притяжения. Как на Луне.
Это – тема для книжки втрое толще оной. В ней были бы сюжеты, подчас не уступающие приключениям трех мушкетеров. Что стоит хотя бы восхождение доброго друга очень многих моих коллег Вали Юмашева от заведующего отделом писем «Огонька» до главы администрации президента России.
Но я не собираюсь писать такую книгу. Однако сохранившиеся (так и хочется сказать – чудом) две рукописи из того времени хочется процитировать. Они отражают искания и заблуждения в создававшихся тогда по новым лекалам творческих коллективах. Речь идет о письме обозревателя «Огонька» Терехова ко мне как одному из руководителей журнала и моем ответе ему. Еще тогда, более двадцати лет назад едва ли не в каждом журналистском материале Александра проглядывался один из лучших будущих российских писателей, каким он стал ныне. Перечитывая нашу «переписку», я еще раз осознаю, как болезненно распадался «Огонек» конца восьмидесятых и начала девяностых. Как нелегко было вступать в новую, более сложную реальность…
«Милостивый государь Александр Сергеевич!
Печальная участь моего последнего сочинения принуждает меня объясниться. За прошедшие два года моей штатной работы я честно исполнял обет немоты и никогда не спорил. Надеюсь, мне простится это единственное письмо, которое имеет сугубо личный характер и не предназначено для огласки.
То, что я хочу сказать, относится не совсем лично к Вам, а скорее к несколько обобщенной фигуре – Редактору. И слова исходящие тоже не будут лично мои, а – Автора. Таким образом я хотел избавить Вас от возможности напрасной обиды, а меня от скованности и угрызений совести.
По каким причинам не идет мой текст? Доводы следующие: зло, неясная личная позиция – все остальное уже производное: отсутствие личной боли, жалости. Я смолчал, поскольку моего мнения никто и не спрашивал, и не проявлял никакой готовности попытаться быть убежденным, но теперь автор позволит себе помахать кулаками после драки.
… статья, видимо, отклонена по глубинным причинам, которые автору высказаны не были из жалости или неловкости. Таких причин может быть две. Первая: направленность статьи, не совпадающая с мыслями Редакторов. Вторая: автор недостаточно одаренный человек, чтобы справиться достойно с темой, и она его погребла, сложившись в нечто бесформенное.
Хорошо, это возможно. Но какое право имеют редакторы решать судьбу моей статьи? В советское время редактор держал на плечах систему, и он по отношению к редакции был верховным судиёй, школьным многомудрым учителем, который мог без малейших объяснений решить судьбу творения лишь только потому, что он отвечал перед системой, и всех тонкостей этой трагической ответственности авторам постичь было не дано – нет так нет. В капиталистическое время судьбу текстов решает тот, кто купил редакцию, хозяин, это та же система. В нашу прекрасную паузу, когда редакторы нас еще не купили, а системы больше нет, что наполняет силой редакторскую руку? По большому счету: инерция всевластности. Существующая ответственность перед читателем, перед культурой, политическим процессом никакого права решать не дает. Поскольку авторы и редакторы абсолютно равны в этой ответственности, у них одна питательная среда, они смотрят с одной высоты. Пропасти «школьный учитель – ученик» больше нет. Это только инерция позволяет, чтобы два или три человека могли сказать: нет, это не пойдет. А почему? Журнал – общая собственность, мы равны перед трудовым коллективом. Это проблемы автора решать, что он будет выращивать на своей делянке: горох или капусту. Не считайте по весне, дайте мне собрать урожай, дойти до читателя, попробовать! Откуда вам знать: хорошо или плохо?! Вы – опытней? Но эта опытность дает вам право поставить рядом с жесткой статьей – мягкую, добавить «От редакции», поставить «Свободную трибуну», но сказать: «нет» – не дает! Вы избраны и назначены на посты? Но это вам дает право приглашать на работу личность, которую вы готовы принять целиком, гарантируя личности эту целостность восприятия – ну, почему я должен стоять все время одним боком, писать туманные очерки и засовывать всё в подтексты и намеки, понятные только двумстам читателям, сто восемьдесят из которых – инвалиды и старые девы?! Какая от меня польза общему делу, коли я скособочен и неволен, если кто-то стоит надо мной и указует: «Только до сих». Вы заключили контракт не с рельсой, а с живым человеком, верно? Так уважайте его искания, его интуицию, его порыв. Вы обязаны на время контракта печатать его личность, если она не антизаконна и профессионально исполнена.
…Вы возразите: но тогда же анархия! Нет. Во-первых, набирая штат, вы доподлинно знаете, кого вы берете. Человек, как дерево – он растет, но другой породой он не станет. Во-вторых, единственный возможный судья – коллектив, он должен воспитывать автора. Он оценивает удачу, он определяет неудачу, он влияет на автора – он тоже не верховный судья, но, безусловно, тридцать профессионалов, учитывающих реакцию публики, – это более нравственная основа для воспитания, чем мнение двух профессионалов, какую бы строчку они бы ни занимали в штатном расписании. Автор изменится, если сочтет реакцию на опубликованное им справедливой. С ним расторгнут контракт, если он сочтет себя правым. Но почему же не публиковать?! Зачем коллективу зашуганные рабы, стесняющиеся своего свободного и искреннего проявления?! Коллективу, который имеет амбиции писать с большой буквы, творить, созидать, а не исполнять мертвую службу…
…Когда я приехал из отпуска, я сел и подумал: два года я вел себя, верно следуя советам В. Шаха (В. В. Шахиджанян, преподаватель факультета журналистики МГУ. – А. Щ.). Боролся за строчки, скандалил за сокращения, писал только то, что хотел, дружил со всеми, всем уступал, очаровывал всех – и чего я добился? Да почти ничего…
…Уважаемый Александр Сергеевич, я бы не сел писать все это и утомлять вас своими стонами, если бы не считал вас единственным безукоризненно порядочным человеком над нами. Если бы не вы были первым журналистом, которого я встретил в Москве и который сказал мне столько доброго, когда у меня не было еще напечатано ни строчки. Если бы я не ценил и не надеялся и в будущем на вашу поддержку и понимание. У меня нет на вас обид, я понимаю, что что-то сильнее вас и меня заправляет в нашей конторе. Может быть, это называется – Советская власть.
Просто, я подумал, а вот понимаете вы, что я мог бы вам ответить, если бы умел говорить не заикаясь? Может, и вам самому это будет нужно, коли вы по стихийно сложившемуся мнению как бы ответственный за творчество, как бы зам. по совести. Я, конечно, истеричен и излишне чувствителен, мнителен, но я вижу во многих вокруг меня развалины того, что у меня пока еще держится в душе. Мне жалко этих людей. Мне обидно за журнал. …Я просто знаю, что абсолютно никому не смогу это написать, и никто, кроме вас, не сможет меня правильно понять и не обидеться.
Все это я написал, чтобы с чистой совестью, без осадка на душе и камней за пазухой и оставаться и впредь,
Милостивый государь, Вашим покорным слугой, соратником и товарищем по оружию.
Александр ТЕРЕХОВ».
«Дорогой Саша Терехов!
(Именно так. Только такое обращение адекватно моему отношению к Вам, Вашему таланту и творчеству. Все остальные варианты – безразлично-назывные, или с налетом амикошонства.)
Ваше послание, как и всякое, требует ответа. Я не берусь сейчас, на скорую руку, откликаться на те его части, где Вы вольно или невольно – в силу исповедальности Вашего стиля или, может, лестного для адресата доверия к нему – приоткрываете заповедные уголки своей натуры. Это суверенно, и, при всем моем расположении к Вам, мы не столь близки, чтобы я чувствовал себя вправе обсуждать это. Просто спасибо за открытость.
Поговорим о работе.
Начну почти что с конца. Я ценю оригинальную работу Шаха, не раз на многих примерах убеждался в ее плодотворности. Но, да простит он меня, не на Вашем. Ваши усилия по применению его системы, Вы правы, не только никакого отношения к Вашему признанию в профессиональной среде (другое – важное! – дело: он вас в нее умело ввел) и в среде читательской не имели, но и не могли иметь. Дорогу Вам прокладывал Ваш талант, и ничего более. Ваши «мелкие деревенские хитрости» в профессиональном, производственном общении, возможно, замысленные как тонкая психологическая игра (или просто следование «системе»), видны невооруженным глазом. И будь они приложены к серости – наверно, раздражали бы или смешили. А так – очень мило, почему бы и нет, даже, может быть, и приятно как бесплатное приложение. Но только и именно потому, что есть к чему приложить.
Скажу, может быть, жестокую вещь. Талантливость большинства Ваших сочинений служит пробивной силой и для прочих – меньшинства (и, по моим предположениям, не только в «Огоньке»). Вообще-то это, видимо, естественно. Много пишущий автор – это всегда или «фирма», или не «фирма». «А. Терехов» – фирма.
И вот эта фирма, вступив в союз с другой фирмой, или системой («Огонек»), очень хочет, чтобы ее собственная конфигурация – сложная и прихотливая – всегда, будучи наложенной на систему, оказывалась внутри нее как своя, органичная. А если это не получается, то пусть она, система, меняет свою конфигурацию, дабы все-таки вписать в себя все то, что в нее никак не входит…
Почему? Да потому что я – Автор, и раз вы меня «приручили» (в понимании Сент-Экзюпери), то принимайте со всеми потрохами, идейными и мировоззренческими, как бы они ни эволюционировали.
Вроде бы справедливо? Нет, не совсем.
Ведь и автор, решаясь на союз с журналом, знал, в какую воду он ступает, в какой печатный орган, какого направления, с какими позициями.
И направление, и позиции печатного органа могут меняться? Безусловно. Но не под силовыми толчками того или иного автора, пусть и самого талантливого. Здесь процессы очень сложные и не имеющие прямого отношения к данной переписке.
Принципиальный вопрос: а почему хранителями и гарантами направления и позиций являются несколько человек, а не коллектив журналистов? А потому, милостивый сударь (вот здесь, по-моему, как раз к месту – просто по звучанию – такое обращение), что «коллективный ум» – это чушь собачья. И «тридцать профессионалов», мнению которых Вы вроде бы готовы довериться, – это просто тридцать умов, которые, в принципе, наверное, могли бы при необходимости придумать 30 различных журналов. …Как это ни досадно для Автора и, может быть, ни обидно для пишущего эти строки, журнал в решающей степени – производное Хозяина журнала (главного редактора в нашем случае), ни социализм, ни капитализм тут не причем… Наш главный редактор пока не счел нужным кардинально менять курс корабля (что, судя по тому, что команда не разбегается, вполне ее устраивает), определив его, как мы с Вами слышали: левее центра. Вам это не подходит? Так и скажите. Будет что обсудить. Но зачем обижаться, если в журнал, который «левее центра», не берут статью, которая сподобилась быть весьма и весьма «правее»? Уважение к автору в таком случае как раз и проявляется в отклонении сочинения, а не в терзании его искусной редактурой.
Должен признать: именно это четко и определенно я не проговорил в беседе с Вами. Отчасти потому, что – Вы правы, – будучи в сотни раз больше, чем Вы, продуктом Совка, до сих пор не овладел в нужной мере умением Прямой речи (да, наверно, и Прямой мысли). А отчасти (совсем уж житейское) – я ведь был готов к разговору с Вами тотчас по прочтении, на два с половиной дня раньше, но, увы, не смог найти Вас в редакции. А в понедельник я уже весь был совсем в другом материале, другого Автора (пусть, возможно, и несравнимого с Вами) в выходящем на финишную прямую 38-м номере… Это не оправдание – объяснение.
Насчет «гороха» или «капусты», которые по своему выбору выращивает Автор. Это, в моем понимании, безусловно право Автора. И то, и другое ценно. И то, и другое необходимо продать едокам – и пусть, действительно, они оценят качество продукта. Мы (в «Огоньке») торгуем горохом (и прочей бакалеей – за ней к нам и ходят, у нас ее и ищут). А к нам вдруг привезли капусту. Но ее закупают и продают в соседней лавке – вместе с луком и морковкой. Так чего же на нас-то обижаться?
А то, что в нашем суматошном и довольно жестоком деле нам часто не хватает теплоты и человечности в наших производственных отношениях – так тут Ваша святая правда, увы. И судьба, наградив Вас талантом к писанию, сыграла с Вами не очень добрую шутку, забросив Вас с Вашей натурой в такую сферу деятельности. И это уже, как говорится, всерьез и надолго. Поскольку именно в этой сфере Вы познали настоящий успех. Вам можно только позавидовать. Так что мужайтесь и закаляйтесь.
А я – по-прежнему остаюсь поклонником Вашего таланта.
Александр ЩЕРБАКОВ».
Лет через десять после того, как были написаны эти строки, я позвонил своему тезке. Прочитал в газете отзыв на его повесть и решил спросить автора, где ее найти. Автор сказал, что только в одном толстом журнале и что он подарит мне этот журнал, если я соблаговолю в удобное мне время приехать к нему на работу на машине, которую он, автор, за мною пришлет.
И я встретился с Сашей, уже главным редактором довольно гламурного журнала, а также генеральным директором издательского дома. Он показал мне свое хорошо организованное творческо-полиграфическое хозяйство, к которому так славно приложилась его совершенно замечательная по откровенности фраза: «Александр Сергеевич, мне так понравилось быть начальником…» По-моему, Терехов в житейском смысле довольно замкнутая натура, как говорится, себе на уме. А вот это вроде бы между прочим сделанное признание – в моем понимании, чистое проявление писательства как самопознания и раскрытия себя миру. Мне кажется, такое сочетание качеств нередко среди творческих людей.
Конечно, к тому времени я напрочь забыл об обмене между нами производственно-психологическими посланиями и не спросил, изменились ли у него взгляды на отношения Автора и Редактора.
А жаль.
В продолжение огоньковской темы я хочу привести выписки из писем моей жены сестре Люке. Да, я отступаю в этом от принятого мною намерения отталкиваться от электронных посланий. Но есть у меня одно маленькое оправдание: Галя за всю жизнь не освоила даже пишущей машинки, что же говорить о компьютере. А чуть ли не половину собственно писательской жизни обмакивала школьное перышко в подобие чернильницы.
«Щербаков выпускает очень хороший «Огонек». У них мировая команда ребят, которые додумывают мысли до конца. Страшное это дело».
Я до получения от родственников в 2012 году сохранившихся Галиных писем и не предполагал, что она так пристально наблюдала за превратностями моей редакционной работы. Но раз уж зашла речь о «мировой команде, которая додумывает мысли до конца», с моей стороны было бы не очень честно оставить читателя лишь с мнением человека, явно лицеприятного к автору. В смысле – без доказательства, без иллюстрации.
Ну, что ж… Могу сказать, можно смело взять любой номер той поры. Но я, не скрою, выбрал один, очень показательный, который вышел 21 декабря 1991 года. В момент, когда Россия уже ратифицировала беловежские соглашения, но еще не завершилось президентство Горбачева. Кратко процитирую лишь два материала, которыми открывался журнал.
«…Смущает не содержание, а форма, которую избрали главы Содружества на пути к свободе.
Договор показался заговором. Против Горбачева. Насмешливый газетный заголовок «Президент опять свергнут» очень верно характеризует случившийся конфуз, чувство неловкости и даже стыда, возникшее у многих.
Глупо, конечно, пытаясь изменить мировой уклад, требовать от политиков во всех их поступках твердого соответствия нормам морали. Сам Михаил Сергеевич разве не доказывал своими действиями благую пользу «маленьких неправд» в борьбе с Большой Ложью? Разве почти каждый его шаг с 85-го года не обставлялся лукавыми недомолвками и пустопорожними речами, в коих искушенные либералы в час по чайной ложке вылавливали робкие намеки на грядущие перемены: освобождение политзаключенных, роспуск соцлагеря, свободу печати, возвращение в цивилизацию? Разве не он, баюкая и строя «козу», «усыпил» мощнейшее полицейское государство с чудовищным аппаратом подавления, наводившим страх на весь мир? И вот результат. Провал путча, захлебнувшегося в собственных соплях, – разве и не его, Горбачева, заслуга? Наконец, кто были бы Ельцин, Кравчук, Собчак, Назарбаев, да и все мы, без его реформ? Даже если предположить, что первоначальные его мечты грубо разошлись с реальными делами…
Путь к свободе и правде, еще до конца не пройденный нами, начал человек несвободный и вынужденный лгать.
Вольно или невольно он привел к власти политиков, от которых мы ждали правды и, казалось, слышали ее.