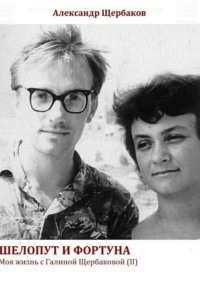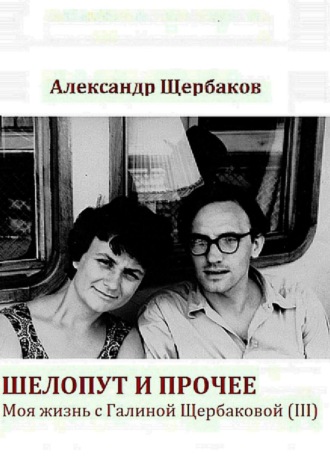 полная версия
полная версияШелопут и прочее
«…В названии есть намеренное снижение высоких тем. «Жизнь и судьба» звучит хоть и высоко, но пошло (согласитесь). А снижение еще показывает, что истинный смысл очень дорог – поэтому защищен легкой иронией. Хорошее название поможет нам донести книгу до читателя».
«…Как Вы понимаете, в хорошем названии я сам очень заинтересован. Но «Шелопутство и дурачество» еще не оно (и я писал, почему). «Жизнь и судьба», согласен, очень претенциозно и поэтому «невкусно», но в нем, по крайней мере, два не повторяющие друг друга по смыслу слова, и поэтому стилистически все грамотно.
…Заголовок пусть будет таким: «Шелопут и хохлушка». Для полной ясности в качестве последнего гвоздя присобачим в самом конце фразу: …И они, уральский шелопут и донбасская хохлушка, нашли его».
«…Что касается названия: никаких, конечно, «Жизнь и судьба» (это же Гроссман!) и «хохлушек» в названии быть не может. Сейчас книги, в названиях которых содержится хотя бы намек на Украину, не продаются вообще. Начиная с кулинарных книг и заканчивая художественными.
Могу предложить изменить только совсем чуть-чуть: «Шелопутство и чудачество». Но «Шелопутство и дурачество» нам кажется наиболее удачным вариантом».
«…Я в свою очередь тоже предлагаю чуть-чуть изменить сочиненное мною название. Вместо «Шелопут и хохлушка» – «Шелопут и фантазерка» (варианты:…и придумщица…и выдумщица…и сказочница. Но мне кажется, фантазерка лучше). Мне не очень хотелось говорить об этом, но, если переходить на общую для нас профессиональную речь, для заголовка наличие в словах суффикса «-ств», да еще подкрепленное «-честв» ом не есть хорошо. Ну, не переваривает это моя душа, сочинившая сотни, если не тысячи названий. Допускаю, что мой профессионально-словес-ный арсенал подустарел. Но тут уж ничего не поделать.
Мне не хотелось бы уходить от найденного Вами хода с ШЕЛОПУТством».
«Александр Сергеевич, предложенные вами варианты названия… не годятся. Вы смотрите на название как автор и читатель, мы смотрим как те, кому книгу продавать. Это немного разные взгляды. Вам же хочется, чтобы книга продавалась, верно? Хочется, чтобы люди ее покупали, чтобы она принесла не только моральное, но и материальное удовлетворение. Я еще подумаю над вашими новыми вариантами…»
«Да, я смотрю на название (как и на все мое сочинение) именно как автор. В этом и заключается мое авторское право…»
«…Простите меня, не хочу показаться дотошной занудой, но вы ведь продали авторское право нам на срок договора, поэтому над названием мы будем еще думать, и я напишу вам отдельно…»
«Из разных вариантов названий предлагаю одно: «Записки шелопута» (Вариации: История шелопута, ИсториИ Шелопута, Записки везучего шелопута, Байки фартового шелопута)».
«Предложенные вами названия не кажутся нам удачными. Они концентрируют внимание на вас, а не на героине вашей книги. Мы хотели бы оставить название «Шелопутство и дурачество. Моя жизнь с Галиной Щербаковой», оно яркое и привлечет внимание женщин, которые, в первую очередь, станут читательницами книги. Мы хотели бы остановиться на этом названии».
«…Хочу в первую очередь сказать, что я очень хорошо отношусь к Вам, ценю Вашу заинтересованную причастность к Гале и ко мне. Пишу это потому, что ни в коем случае не хотел бы нанести Вам обиду.
Я не считал и не считаю себя эталоном литературного вкуса и вполне допускаю, что в случае с заголовком Вы правы. Пусть так и будет (я же не вычеркнул его в верстке). Но при такой ситуации – и это вне обсуждения – не годится никакой подзаголовок, в котором есть имя Галина Щербакова. Потому что, Вы правы, и шелопутство, и дурачество и по книге, и по жизни свойственны мне. А Галина, напротив, ко всему, что составляло (и составляет) главное в нашей жизни относилась (и относится) столь серьезно (неужели это вовсе не отразилось в моем мемуаре?), что малейший намек, пусть даже нечаянный, на какую-то ее легкомысленность, просто легкость в отношении чувств, людей, меня – неправда, и, боюсь, оскорбительная неправда. Я, например, ведь не для красного словца написал, что она не колеблясь отказалась от сотрудничества с издательством, выпустившим книгу с категорически не понравившейся ей обложкой. И как же я буду выглядеть, если соглашусь с этой неправдой ради собственной авторской выгоды. Да лучше бросьте эту рукопись в корзину, для меня, я Вам об этом уже писал, главное – что она написалась.
Я при обсуждении заголовка не хотел задевать эту сторону, во-первых, потому что думал обойтись без ненужного обнаружения чего-то слишком личного, а во-вторых, думал, что Вы и так сознаете все это. Внимание «читательниц», конечно, нужно иметь в виду, но для меня есть резоны более важные, чем авторские амбиции».
«Дорогой Александр Сергеевич, мы посоветовались и решили, что можем пойти на компромисс в плане названия и предложить вариант: «Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой». Подумайте, пожалуйста, над возможностью такого названия».
«Это – хорошо.
Вдогонку. «Моя жизнь…» или «Наша жизнь…»? Ну, это на ваше усмотрение».
«…Огромное спасибо за согласование. Пусть будет «Моя жизнь» – так ближе и лиричнее. Спасибо!»
Да, тысячу раз готов согласиться с утверждением своего бывшего издательского оппонента: хорошее название помогает донести написанное до читателя. А плохое мешает. Приведу, как говорится, живое свидетельство. От противного.
Вот какое письмецо от Галины я отправил с нашего компьютера в издательство (другое!) в 2007 году.
«Л-а!
Ночью мне привиделся пижонский заголовок Он шел, как Бернард Шоу. Щербаков пнул меня за него ногой. Его вариант: Утерянный дом (именно «у», а не «по» – как безвозвратность). На это у меня родилась простая, как мычание, Расплата, а потом еще Смерть под звуки танго. Еще из Даля: Мста не мзда, но кто же знает теперь эти слова?
Наверное, все-таки Утерянный дом. Я как-то верю А. С.
Л-а, отзвоните, ладно? Я же барышня беспокойная…
Ваша Г. Н.».
Нажав клавишу «Отправить», я сказал уважаемому автору, что убил бы его за предложенный вариант «Смерть под звуки танго». И тут же забыл об этом своем обещании. Какая же досада постигла меня, когда в свет вышел не только роман, но и целая книга под этим пошлым названием. Не знаю, как долго расходился десятитысячный тираж, но я-то уж точно обходил бы это заглавие стороной.
То было время расцвета дешевых – и по продажной цене, и по словесному наполнению – детективов, а их головокружительный тиражный успех у новорусской публики не мог не сказаться на профессиональном сознании издателей. Чисто газетные, из разряда криминальных хроник, заголовки присобачивались не только к «ироническим детективам», но и ко вполне достойным текстам. Такое было поветрие.
Да и не беда был бы заурядный словесный штамп, относись он к соответствующему пустоватому тексту, а не к сочинению, существенно важному для Галины. Алена Бондарева в основательной статье «От доброй породы до Яшкиного рода. Галина Щербакова», посвященной выявлению писательницей русской души, характера и типажей, даже если бы и хотела, не могла обойти сердцевину главной проблематики ее произведений. «Через окно разрушающегося дома Щербакова смотрит на историю и на политику нашей страны. …Писательница нередко ставит вопрос о том, почему в стране, где люди прошли через войны, лагеря и расстрелы, скоротав полвека в ненавистных коммуналках, возможны новые расправы и смерти?» («Вопросы литературы», ноябрь-декабрь 2012).
«Почему и откуда берутся ненависть и предательство, стукачество и угодничество, но в то же время невероятная любовь и всепрощение, сострадание и щедрость? – вновь задается тем же вопросом Бондарева уже в другом тексте. И утверждает: – Ответа нет». Но он есть! И она же, углубляясь в сочинения Щербаковой, отмечает: «Пораженный ненавистью мир гибнет на глазах: брат идет на брата, дочь на родителей, друг на друга (не это ли происходит в наших священных войнах то «за освобождение», то «за присоединение»?)».
Раскрой критик роман с нелюбимым мной названием, и перед ним развернулась бы чуть ли не вековая художественная картина посева и старательного взращивания властями предержащими взаимной людской ненависти.
«Он выскочил, но дом был уже в огне. Он видел, как мама разбила окно и с маленьким Мишкой на руках пыталась вылезть. Ее срезали пулей. В другом окне срезали няню Марусю с маленькой Олечкой. В третьем окне убили отца. Потом на всякий случай стали палить по всем окнам. Они так ярко виделись на фоне огня – дед Василий и его сын Иван, и другой его хлопец, мальчишка, может, не намного старше его самого… Дед Василий кнутом показывал, где надо добавить огня, а Иван и Володька подскакивали в седлах при каждом громком треске и смеялись, как дети у распаленного костра. Голосов больше не было, и гады ушли. И тогда он услышал слабенький плач. Он понял, что убитая нянька выронила Олечку. И они там рядом, под окном, внутри комнаты, убитая и живая».
Вот монада междоусобицы соотчичей – землетрясения, которое до сих пор раскачивает Россию неизбывной, как бы уже генетической, передающейся от поколения к поколению ненавистью – к кому угодно или на кого укажут, а главное – ко всему иному.
Кто это сказал: «дело прочно, когда под ним струится кровь»? Ну да, Некрасов, «Поэт и гражданин»! Бедный поэт, который шел «за народ» «в тюрьму и к месту казни», а заслужил за это клеймо клеветника… Бедный гражданин, готовый, было, пролить за ради общего блага свою кровь, но хозяева жизни двадцатого и двадцать первого века приучили его к мысли: для твоего счастья необходимо пролить как можно больше крови других – иных. «Расстрелять!» «Убить!» «Ликвидировать!» «Пусть сдохнут!» – нетленные большевистские пароли к благоденствию, все еще хранимые в душе, может быть, большинства из нас. Поэтому в русской земле так и не утихают кровопролития, расправы и смерти.
Вот о чем тот роман Галины. С вульгарным, извините, названием… Обидно.
Заключу отступление про книжное заглавие небольшим откровением Галины. «Как правило, я редко знаю, как будет называться тот или иной рассказ. И мне даже нравится, как уже после точки возникает фраза, подчас по видимости никакого отношения не имеющая к существу написанного, но она становится впереди, и попробуй ее отгони. Фраза, как птица клювом, держит рассказ, и это такое – видели бы вы – удивительное зрелище, как цепляются слова друг за другом, как на крючочке висит последнее слово (и даже точка), и их не разорвать.
Вот так же слетелись в сборник («Дочки, матери, птицы и острова». – А. Щ.) рассказы… Вот так взлетели они все стаей и повисли на названии».
По памяти вспоминаю названия ее сочинений: «Причуда жизни», «Шла и смеялась, шла и смеялась…», «Сентиментальный потоп», «Как накрылось одно акме», «Дверь в чужую жизнь», «У ног лежачих женщин»… Наименование романа «Женщины в игре без правил» оказалось на редкость удачным. Послужив названием не менее десятка ее сборников оно к тому же стало и эмблемой целой серии ее же книг в издательстве «Эксмо», и цикла телепередач, уже не имеющих к ней никакого отношения. Это выражение стало широкоупотребимым, как говорится – «слова народные». И неудивительно, что оно в том или ином виде разошлось по заголовкам сочинений многих других авторов.
Я, признаюсь, доволен, что вышел на тему заголовков. Для нормального читателя газет и журналов она, конечно, не животрепещущая: у многих ли остаются в памяти названия пусть и понравившихся статей или стихов? (Я не говорю о публикациях, так сказать, эпохальных – типа «Эхо войны» или «Убей его!».) Но она близка литературным работникам прессы, и мне в том числе.
На факультетах журналистики преподаватели часто выделяли ее как составляющую литературного мастерства. Я в свое время читал даже солидное исследование, посвященное типологии заголовков газетных фельетонов. Пытаюсь что-то вспомнить из него, но безуспешно. Кроме одного заглавия: «Тропою гнома». Оно было приведено в качестве примера творческой удачи, потому что фонетически ассоциировалось с модным в 50-е годы романом «Тропою грома» (автор Питер Абрахамс, тема – о расовых предрассудах в Южной Африке; вот же причуда памяти: вдруг вспомнил то, что казалось давно-давно забытым. Может, и впрямь прав тот исследователь периодики. Бесследно улетучились и имя сочинителя, и смысл фельетона, а название – вот оно… К тому же еще всплыли и заглавие романа, и фамилия писателя).
И вот еще одно «к тому же»: вспомнился заголовок, сработанный по такому же образчику – «Здесь будет город-суд» (о переезде в Санкт-Петербург верховного и арбитражного судов). Он в свое время украсил газету «Коммерсантъ».
Как же в этой теме можно обойтись без «Коммерсанта»! Это издание возникло перед изумленной публикой в самом начале 1990 года. В первую очередь воображение поражали названия публикаций. К примеру: «Моссовет велел мясу дешеветь. Мясо не хочет»; «Педерасты СССР и США сводят концы с концами» (о советско-американском симпозиуме по правам лесбиянок и голубых); «Референдум прошел. И плебисцит с ним…» (о результатах всесоюзного опроса); «Цены в мае: жуть стала лучше, жуть стала веселей»; «Проститутки на круглом столе МВД» (о совещании ученых, собранным министерством). Такой раскованности и эпатажности мы не могли припомнить в нашей периодике.
С этим таблоидом, тогда еще еженедельником, в нее вливалась новая струя – так называемая журналистика факта (определение В. Д. Дранникова), противостоящая публицистике рассуждений. Она бесспорно обогатила средства воздействия на читателя. А ее заголовки, поначалу казавшиеся экстравагантными, быстро вошли в моду. Потом их стиль впитался, как родной, в плоть и кровь отечественной прессы, судя по всему, на долгие годы.
Смолоду казалось, что я удачно придумываю заголовки. В местных молодежных газетах они сходу проходили на полосы, потом (уже не так легко) в «Комсомольской правде». В следующих изданиях, где работал, я занимал некое руководящее положение и сам часто перед засылом в типографию изменял названия чужих материалов, полагая, что улучшаю их. Позднее такая уверенность поубавилась…
Мой опыт в этом деле заметно обогатился в «Огоньке». Что отличает иллюстрированный еженедельник от газет и других журналов? Очень многое, но я назову самое очевидное: картинкой на первой странице обложки – яркой, актуальной. Эмблемой дня.
Но этого мало. Редакции хочется, чтобы сиюминутная эмблема переросла в значительный символ, отображающий в обобщении, во-первых, злобу текущего момента и, во-вторых, содержание конкретного номера издания. В большинстве случаев это достигается точной и яркой обложечной надписью, «шапкой», то есть заголовком фотографии (рисунка, картины), поставленной на обложку.
Сложность такового творческого акта я ощутил в первый же мой огоньковский день. Впервые увидел, как над названием (заголовком) мучаются не в одиночестве, а коллективно.
Тут закавыка вот в чем. «Заглавную» картинку как важнейшую в издании ищут и главный художник, и руководители фотослужбы, и секретариатчики, и главный редактор вкупе с его замом, ведущим номер. Одна из самых популярных фраз в редакционных кулуарах: «Что будет на обложке?» Часто эти поиски длятся до самого последнего мгновения и, как правило, на придумывание «эпиграфа» к номеру времени практически не остается. Вся надежда – на «мозговой штурм» редколлегии, отправляющей журнальный выпуск в типографию.
Там, в редакционном конференц-зале, иногда в чьей-то голове вдруг рождалась, как внезапный выстрел, счастливая словесная формула, точно ложащаяся и в обложечную картинку, и в главный смысл данного, конкретного еженедельника. Но чаще процесс выливался в иссушающую мозг отбраковку бесчисленных неудачных предложений. Бывало, на это уходило и час, и более.
Чувствую, не обойтись без примера. Вот памятный номер – первый сентябрьский 1991 года. И первый же, когда после горячечных августовских обстоятельств редакция стала возвращаться к привычному рабочему пульсу.
На обложку решили вынести кадр, сделанный Марком Штейнбоком 22 августа с какой-то очень удаленной от земли верхотуры. Маленькие, как муравьишки, сотни людей несут гигантское, чуть ли не во весь Новый Арбат бело-сине-красное полотнище – символ возрождаемого достоинства подлинной России. «После трех дней и бессонных ночей, после великого, равного десятилетиям, прорыва к свету, после прощания с теми, кто его приблизил, – остановимся, прислушаемся к времени, попробуем рассмотреть, понять мир и себя» – этим текстом публицистики Толи Головкова открывался номер «Огонька».
За ней – на разворот – «Хроника текущих событий (Из дома Андрея Сахарова на улице Чкалова)»: дневник Елены Боннэр, который та вела с 19 по 22 августа. Вслед за ним – «Прозрение» великого офтальмолога Святослава Федорова. Не о глазах, а о судьбах и ответственности народа и отдельных людей на важнейшей грани истории. Статья Александра Нежного «Над бездной» – о поведении в те же дни церковников.
«…И Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в эти дни как бы с немалым усилием освобождавшийся от сковывавших его старых уз и трудно поднимавшийся в рост первосвятителя Церкви, в последнем своем обращении сказавший, что отвергнутая народом коммунистическая идеология никогда более уже не будет господствующей в России, – помог и он отстоять законную власть.
Но епископы? архиепископы? митрополиты? С ними-то что сталось? Отчего ни один не явился – как Мстислав Ростропович – под стены «Белого дома»? Девятнадцатого августа, на конгрессе соотечественников, когда все встали в знак протеста против большевистского переворота, три митрополита: Кирилл, Смоленский и Вяземский, председатель Отдела внешних церковных сношений, Ювеналий, Крутицкий и Коломенский, Питирим, Волоколамский и Юрьевский, председатель Издательского отдела, – сидели, как гвоздями прибитые. Когда двадцатого августа, выпуская первое свое воззвание, Патриарх предложил членам Священного Синода поставить под ним свои подписи, митрополиты Кирилл, Ювеналий, Филарет Киевский почли за благо отмолчаться. И, думаю я, не только страха ради иудейска, а и по корневому родству с ГКЧП, по привычке выслуживаться перед про́клятым Богом режимом, по стремлению во что бы то ни стало сохранить сытый покой своего высокопреосвященства».
Под стать высокопреосвященствам вели себя многие люди, проявившие в те дни моральное ничтожество. Скажем, «ревнитель тоталитаризма Жириновский – мало кто кланялся хунте так истово, так верноподданически, так лакейски». Целый разворот отвел «Огонек» этому деятелю. «Крах мятежников – отнюдь не капитуляция для Владимира Вольфовича и его присных. Они затаятся на время, они перекрасятся, как смогут, они найдут для сограждан новые словеса для старого обмана и оболванивания». Как в воду глядел Леонид Радзиховский – и по отношению к хамелеону с его крысоловной дудочкой, и по отношению к бегущим за ней на четвереньках.
«ЦЕНА СВОБОДЫ» – такую формулу вынесла редакция на обложку вместе с фотосимволом нового флага новой России. И, согласитесь, она была всеобъемлющей. Под нее подходил и репортаж «Отчаяние» – о развертывавшемся в Нагорном Карабахе конфликте между Арменией и Азербайджаном, и интервью народного депутата, члена Политбюро ЦК КПСС Галины Семеновой «Для партии это была катастрофа…». И интервью с руководителем группы по расследованию дела ГКЧП. И, конечно, заметка Виталия Коротича «К читателям»: «Сегодня очень многие спрашивают, почему я ушел с поста главного редактора «Огонька»…» Вся тональность журнала соответствовала этому его ключу.
(Понятие «ключ номера» живет в моем профессиональном сознании еще со времен панкинской «Комсомольской правды». Тогда в ней был обычай время от времени делать тематические выпуски – номера, в которых объединялись материалы, посвященные одной жизненной проблеме. Но газета перестала бы быть газетой, если бы «тематические» публикации не были погружены (окружены) в актуальную информационную среду. Для того чтобы не запутать читателя, дать ясность о редакционном замысле, и был придуман «Ключ номера» – небольшая броская информация на первой полосе. Она открывалась изображением массивного, как к сундучному замку, ключа, нарисованному ответственным секретарем редакции Григорием Огановым, бывшим к тому же и газетным графиком, и перечисляла материалы, относящиеся к «Теме».
Впоследствии эту придумку стали использовать многие редакции. В том числе и «Огонек» при наличии в выпуске так называемой «Темы номера».)
…В 2008 году новые хозяева «Огонька» назначили нового главного редактора – Владимира Чернова. Я его знал (и высоко ценил как прекрасного автора и высокопрофессионального журналиста) еще с «Комсомолки» шестидесятых. Ныне же вспоминаю о нем в связи со штрихом его редакторской методы, связанным именно с заголовками.
Как только складывался в верстке очередной номер журнала, по редакционным коридорам и закоулкам разносилась команда типа «Свистать всех наверх!» То бишь – в кабинет главного. И там начиналось великое толковище по поводу заголовков к каждому(!) из предназначенных к выпуску материалов. Сгрудившись вокруг необъятного заседательского стола, все имеющиеся на данный момент сотрудники высыпали возникающие у них варианты наподобие того, как поступают при поиске ответа знатоки в «Что? Где? Когда?» Но, в отличие от тех, мы не были стеснены секундомером (как я понимаю, Чернов намеренно закладывал на такие сходки практически неограниченное время), и можно было, отдаваясь этому коллективному драйву, запросто довести себя до изнеможения.
Это был вид интенсивного творческого тренинга. Знать бы, что я когда-нибудь об этом буду расска-зывать, – взял бы для примера на карандаш хотя бы одну такую «оперативку». Но, увы…
II
«…А как ты вообще живешь-то? Я например – просто живу практически в деревне под Суздалем, обычная бытовая жизнь, иногда нарушаемая приездом сына с женой, два-три дня бедлама и опять день похож на день, как будто их впереди еще тысяча. Тщеславные порывы я давно оставил, друзья теперь где-то там, далеко и призрачные. Что компенсирует бессмысленность бытия – так это Фейсбук. Мне в этом году, да просто через месяц – 80 лет, много, согласись. Но знаешь, мне совершенно всё равно, ни о каких общественных юбилеях я даже не помышляю, никаких дерганий, я приучил себя к мысли, что я обыкновенное частное лицо, до которого никому нет дела, и это нормальное состояние души. Нас всё же очень развращала журналистика, мы казались себе пупами земли, все вокруг вертелось. И я даже с некоторым удивлением смотрю на своих бывших коллег – эка их до сих пор распирает! Тем более тот же Фейсбук способствует этому в лице сонмища френдов и френдесс, кочующих и ловящих каждый чих как когда-то это делали театральные поклонницы».
Это еще одно письмо от Володи Глотова, которого я здесь вспоминал, переходя к теме «Комсомолки», а также в рассказе о начале моей службы в «Огоньке». Помимо этих двух пересечений судеб, Владимир одно время работал вместе с Галиной в редакции журнала «Смена», и между ними тогда возникла дружеская симпатия.
Письмо Глотова, опять-таки присланное по случаю моего дня рождения, всколыхнуло какие-то пласты памяти и побудило «оглянуться окрест» себя: «А как ты вообще живешь-то?» Вот мой ответ. И ему, и себе.
«Володя, я тебя хорошо понимаю. Ты точно сказал: нормальное состояние души – ощущение, что ты обыкновенное частное лицо, до которого никому нет дела. Я пришел к этому самочувствию, может быть, раньше и намного проще, чем ты. Мне просто очень повезло (именно в этом отношении) в обстоятельствах.
Когда не стало Гали, вся моя жизнь сосредоточилась на том, чтобы свет увидел сделанное, но не опубликованное ею. Я собрал разбросанные и по квартире, и по Москве (студии, частные лица и т. д.) пьесы и сценарии. Получилась книга «Будут неприятности». Затем – все, что ныне принято называть «non-fiction»: книга «И вся остальная жизнь». Потом еще одна – «Печалясь и смеясь». В ней сочетаются отрывок из неоконченного романа и рассказы с очерками, эссе журналистского толка. И, конечно, мне тогда было безразлично все, что выходило за пределы моих этих интересов. Но с окончанием работы у меня исчез смысл жизни. И, как ты пишешь, день стал похож на день…
И вот тут – главное везение. Внезапно, безо всякого замысла, под непонятным озарением я сел и начал писать что-то. Одно было ясно: это про Галю и мою жизнь с ней. И вот так дальше – без замысла, без плана, без конечной цели – пошло какое-то мое повествование. И возник смысл. Володя, я абсолютно не думал о книге. Но когда написал уже, наверное, сотню страниц, показал их Володе Чернову. Тот сделал шикарную публикацию в своем замечательном журнале («Story». – Ред.), и это вселило в меня кураж и большую решимость в моем писании. И получилась книга. Она вышла в свет в конце прошлого года в издательстве «Эксмо». Я этому рад, но главное в другом, в том, о чем я уже написал. Возник смысл. Я продолжаю писать, потому что боюсь остановиться. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Стараюсь по-прежнему не думать о книге. Но сейчас это уже не очень выходит. Видимо, это тоже «разврат журналистики». Вот история моего везения и подноготная того, как я отъединился в своей душе абсолютно от всякой публичной (общественной?) жизни. Если в моем откровении есть налет самодовольства, ты уж меня, пожалуйста, извини и поверь в то, с чего я начал: я очень хорошо тебя понимаю и сопереживаю. Это на самом деле так».