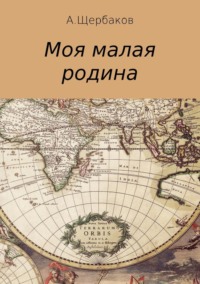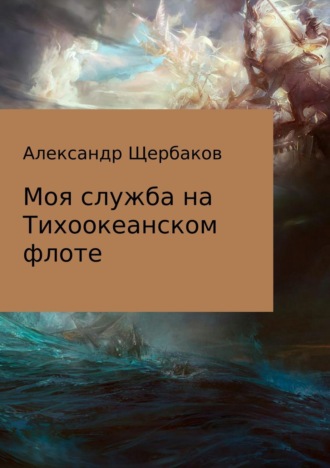 полная версия
полная версияМоя служба на Тихоокеанском флоте
Закон парных случаев никто не отменял. Оказалось, что примерно в то же время на нашей базе в Малом Улиссе произошло еще одно ЧП. При загрузке учебной торпеды в подводную лодку Б-62 торпеда взорвалась. Вернее, взорвался баллон с кислородом, находящийся внутри торпеды в качестве окислителя. Давление в баллоне 200 атмосфер. Как потом оказалось, имело место утечка кислорода из баллона, торпеду оставили на пирсе, чтобы потом увезти в арсенал. Но кто-то из моряков, проходя мимо, погладил рукой торпеду. Руки у всех моряков дизельных лодок в масле. Именно поэтому я все время службы на лодках носил перчатки, зимой и летом. И все равно, от меня постоянно пахло дизельным топливом. А кислород маслоопасен. Вот он и взорвался. Погиб командир БЧ-3 (торпедной) подводной лодки, еще 1 матрос и был осколком торпеды ранен офицер на соседнем пирсе. Уже через полчаса на пирсе был командующий флотом и еще много адмиралов и высших офицеров штаба флота. Как говорят, в это время обнаружилась утечка кислорода еще у одной торпеды. И все эти офицеры в светлых кремовых форменных рубашках стали прятаться кто куда мог, некоторые даже за бордюр, выставив толстые зады. Но никто не смеялся. Не до этого было. После это наше возвращение в бухту Малый Улисс, да еще с поврежденной носовой оконечностью лодки и с возможной деформацией торпед было совершенно невозможным. Поэтому нас направили в бухту Стрелок, в Павловск, где базировались атомные подводные лодки. Так я оказался на совершенно секретной базе, вблизи увидел эти огромные (правда, потом они стали еще больше) корпуса атомных лодок и порадовался, что у нашей страны есть возможность защитить себя от врага. А ведь в тот период такое столкновение между СССР и США было совершенно реальным.
Третий случай произошел при глубоководном погружении лодки. Предельная глубина лодок этого проекта составляет 200 метров, рабочая глубина 150 метров. Но со временем, в процессе эксплуатации наступает усталость металла и во время глубоководного погружения устанавливается та глубина, на которую затем лодка может погрузиться без риска утонуть. Процесс это довольно сложный и рискованный. Через каждые 10 метров глубины во всех отсеках устанавливается режим полной тишины и каждый член экипажа, размещенный по всей длине лодки, внимательно вслушивается в посторонние звуки и шумы. Самое страшное, это услышать свист поступающей под большим давлением в отсек забортной воды. Конечно, доводить до этого никто не собирался, но этот звук мог появиться в любую секунду. Именно так в 1963 году во время глубоководного погружения погибла американская атомная подводная лодка «Трешер». Об этом узнал весь мир. А вот если бы утонула Б-63, никто бы не узнал. Как не узнавали о гибели некоторых наших подводных лодок за все время «холодной войны» ни общественность, ни родные. Приходила похоронка семье со стандартными фразами «погиб при исполнении воинского долга» и все. Семье офицера-кормильца давали небольшую пенсию, а родителям матроса ничего. Кстати, нашей лодке предельную глубину погружения установили в 120 метров.
На подводных лодках были некоторые традиции, которые доставляли мне, как начальнику медицинской службы, неудобства. Одной из таких была традиции выпить моряку, который впервые погрузился под воду, плафон заборной морской воды. Плафон вмещает около 500 мл воды. Во-первых, холодной, а во-вторых соленой. Редко когда у моряков после этого не болело бы горло, и не было бы поноса. Или традиция не протираться спиртом на ватке во время длительных плаваний (вместо умывания лица), а выдавливать спирт с нескольких ваток в стакан и одному моряку выпивать. Сегодня один, завтра другой, потом третий. А гнойничковые заболевания лица в расчет не берут. А на лодке везде пары дизтоплива, да и вообще много маслянистых деталей, так что поддерживать гигиену необходимо. Но с такими традициями бороться было невозможно.
У меня на памяти есть случай гибели офицера во время автономного плавания. Я дежурил в лазарете береговой базы, когда мне позвонили из штаба и сказали, чтобы я приготовил сумку для оказания экстренной медицинской помощи и был готов к выезду. За мной заехала машина, и я вместе с 3 или 4 старшими офицерами выехал в город. Оказалось, что мы едем к родителям офицера, который погиб в море во время автономки. Будучи вахтенным офицером, и находясь на мостике во время шторма, ударился головой о репитор гирокомпаса. Накрывшей рубку волной его просто бросило на этот выступающий прибор. Обычно, чтобы не смыло волной, на мостике вахтенные привязываются к поручням. Возможно, офицер не очень хорошо привязался или был длинный конец веревки. Но факт есть факт. Лодка идет дальше в автономку к югу, труп в цинковом гробу передадут на гражданское судно, которое возвращается во Владивосток. Задача нашей группы сообщить родителям о гибели их сына. Кстати, отец был морским офицером в отставке. И вот такая нелепая гибель сына. Я был в группе для оказания медицинской помощи родителям, если потребуется. Но они очень мужественно восприняли весть о гибели сына, как будто окаменели. Видимо, всю жизнь жили под грузом возможной гибели вначале отца, потом сына.
Дежурства в лазарете береговой базы были неотъемлемой частью моих служебных обязанностей. Устанавливался график дежурств врачей подводных лодок с учетом их выходов в море. Помню фамилию начальников лазаретов как в 4-й бригаде – Дау, так и в 19-й бригаде – Теф. Вот такие очень редкие фамилии. Дау был старшим лейтенантом, устроили его на эту должность по блату. А Теф был капитаном и прошел долгий путь к этой должности, придя на неё с подводной лодки. С обоими этими офицерами у меня были не дружеские, а нормальные служебные отношения. В лазарете мы оказывали первую помощь при травмах, несложных заболеваниях, вели амбулаторный прием матросов и офицеров с подводных лодок, находящихся у причала. Иногда выезжали к заболевшим членам семей старших офицеров штаба бригад. Вместо вызова скорой помощи туда направлялись мы, хотя это и не входило в наши обязанности. Так что у меня был уже какой-то опыт работы, когда я через несколько лет стал дежурить в травмпункте городской больницы № 11 города Хабаровска.
Называя свою подводную лодку дизельной, как это было принято в литературе, я называл её неправильно. Лодка была дизель-электрической. Для надводного хода использовались дизеля, а при погружении лодка шла под электромоторами. Ток для них давали аккумуляторы, которые постоянно подзаряжались во время движения в надводном положении. Скорость у подводной лодки была не очень большой – 17 узлов в надводном положении (около 30 км/час) и 16 узлов в подводном. При этом в подводном положении лодка могла полным ходом идти не больше 2-3 часов, аккумуляторные батареи за это время полностью разряжались. И хотя как дизеля, так и электромоторы работали на одни и те же валы и винты, двигаться задним ходом лодка могла только под электромоторами. Специальный редуктор отсоединял дизеля от валов. Так что подводная лодка швартовалась к пирсу под электромоторами.
Однажды, в первый месяц после нашего перевода на постоянное место базирования в бухту Малый Улисс при швартовке случилось нечто, после чего на нас, экипаж Б-63 все показывали пальцем. После прихода с моря нам надо было пришвартоваться к самому крайнему к выходу в море пирсу. В это время дул довольно сильный ветер со стороны берега, который относил лодку от пирса. Наш командир Сергиенко принял Б-63 недавно, до этого он служил в Советской Гавани и был командиром подводной лодки проекта 613. Его прежняя лодка имела меньшие размеры и всего два двигателя. А наша лодка имела и большие размеры, а значит и большую парусность, и три двигателя. И наш командир опростоволосился. Никак не мог подойти к пирсу, чтобы завести швартовы и причалить. Я был внутри лодки (швартуется лодка по боевой готовности и каждый должен быть на своем месте). Поэтому не знаю, какие ошибки допускал командир, но то, что мы смогли пришвартоваться лишь через час после того, как подошли к пирсу, полностью разрядили батареи, это точно. Потом по базе пошли слухи о недостаточной подготовке как командира, так и швартовой команды. После этого случая на борт лодки несколько раз поднимался более опытный командир, присутствующий при швартовке, и дававший советы нашему командиру.
Помню фамилии некоторых офицеров нашей лодки. Старший помощник командира капитан-лейтенант Янин, заместитель по политической части Кудлаев, помощник командира Зуб, командир БЧ-4 (РТС) старший лейтенант Воронин, командир БЧ-5 (электро-механическая часть) Сайпулаев были мне старшими товарищами и давали дельные советы. Особенно близко я сошелся с Сайпулаевым и Кудлаевым. Так было приятно потом в газете Тихоокеанского флота читать заметки об этих офицерах и видеть их фотографии. Хорошим мне помощником был санинструктор Изотов. Назвать его звание не могу, т.к. как он дважды за свою службу получал звание главного старшины и оба раза был разжалован до старшего матроса. За сон на посту и трапа лодки в базе. У него был такой богатырский храп, что перекрывал гул от работы дизелей. Вот это храп от стоящего на посту матроса слышал проходящий вдалеке дежурных офицер и Изотов дважды был разжалован. Но потом снова стал старшиной.
Я уже писал, что довольно часто выходил в море на других подводных лодках. Как правило, это были выходы для сдачи каких-то нормативов по боевой подготовке. Обычно на борт субмарины прибывали офицеры штаба бригады и эскадры. Очень часто это были одни и те же офицеры, так что мы стали хорошо знакомы. Помню одного капитана 1 ранга, заместителя командира бригады, он очень часто выходил со мной. Делать в море врачу особо нечего, я старался брать на выходы книги. Играть в карты на борту лодки запрещено, только в домино и нарды. Но домино мне не нравилось. А вот в нарды я довольно неплохо играл. Мне по моему заказу сделали набор нард, который вмещался в портфель и я брал его с собой в море. Я набор разукрасил, нарисовал парусник и подводную лодку в бурунах волн. Поэтому у меня была персональная доска для игры в нарды. И очень часто мы играли с этим капитаном 1 ранга. Помню, он всегда брал к себе лицом рисунок с подводной лодкой. Был я в море и с командиром эскадры. Это был контр-адмирал Ю.Сысоев, Герой Советского Союза. Подводник, он одним из первых командиров подводной лодки прошел подо льдами через Северный полюс, всплыл в районе полюса, за что и получил свое высокое звание. Тогда он командовал торпедной атомной лодкой К-181, еще 1 поколения, очень шумной. Эта лодка в сентябре 1963 года всплыла в полынье, хотя была готова выполнить всплытие и после торпедного залпа в лед, если бы не нашлась полынья. Симпатичный, еще довольно молодой, очень доброжелательный, он несколько раз разговаривал со мной в кают-компании и пару раз играл со мной в нарды.
Говоря о субординации на подводных лодках, могу сказать, что она не была такой уж строгой, как на надводных кораблях. Мы, лейтенанты очень редко отдавали честь капитан-лейтенантам и никогда старшим лейтенантам. Начинали приветствовать только капитанов 3 ранга и выше. И нам отдавали честь в основном матросы и старшины, мичмана не всегда. Останавливать мичмана старше тебя по возрасту и читать нотации лично у меня язык не поворачивался. На надводном корабле честь отдавали строго по уставу. Там все ходят по разным палубам, и если корабль тонет, то шансы спастись у всех разные. А на лодке мы все в одном положении. Как правило, гибнет весь экипаж лодки, особенно если она находится в подводном положении.
Хотя для спасения экипажа затонувшей подводной лодки делалось в наше время очень много. Обучение всех членов экипажа легководолазному делу было обязательным. Для этого было УТС (учебно-тренировочное судно). Оно было оборудовано всем необходимым. Бассейны с морской водой, барокамеры, отсеки, в которые подавалась вода или огонь, имитирующие затопление отсека или пожар. Недавно я прочитал в журнале «Популярная механика» об американском учебном судне (копии эсминца). Там имитируется легкий ветерок, легкий бриз, ароматы океанской воды. Всего этого не было на нашем УТС. Но вода, поступающая в отсек, горение ветоши и задымление отсека были настоящими. И действовать надо было по-настоящему. Так в условиях, приближенных к естественным, члены экипажа отрабатывали практические навыки по выходу из затонувшей подводной лодки через торпедные аппараты или шлюзовые камеры, по тушению пожара или заделке пробоины.
Для меня до сих пор самым жутким состоянием в прожитой жизни осталось воспоминание о выходе через трубу торпедного аппарата. В полном снаряжении подводника, с ИДА-59 (индивидуальный дыхательный аппарат) пролезть в трубу диаметром 533 мм человеку моей комплекции не так просто. Да еще находиться там вместе с двумя подводниками в полнейшей темноте, ждать, когда труба будет заполнена водой, а потом по сигналу вылезать из неё наружу, в бассейн с водой стало памятным на всю жизнь. Термин «мусинг» (узел на тросе, соединяющем всплывший аварийный буй и затонувшую лодку) мне как родной. Когда в кинофильме «42 метра» о затонувшей подводной лодке мичман, которого играет артист Галкин говорит впервые выходящему из лодки герою, которого играет артист Маковецкий «И по мусингам, по мусингам» у меня озноб по коже пробежал. Задержка на каждом узле (мусинге) позволяла подводнику избежать кессонной болезни (закипания азота в крови). Сколько барабанных перепонок матросов порвалось, потому что они неправильно себя вели при всплытии с глубины 30 метров методом свободного всплытия. А нервный шок у обеспечивающего персонала, когда из трубы торпедного аппарат вышли 2 матроса, а третий нет (вздремнул в полной темноте). Стали закрывать переднюю крышку, чтобы откачать воду, вытащить через заднюю, а он проснулся и стал вылезать, его прищемили крышкой. Так что было много разных нервных ситуаций во время этих тренировок на учебно-тренировочном судне.
Не знаю, насколько сейчас серьезно подходят к обучению экипажей подводных лодок, в наше время все это было поставлено на очень высокий уровень. И врачи подводных лодок очень профессионально изучали физиологию человека при глубоководном погружении. Ведь уже с глубины в 70 метров вместо обычной кислородно-азотной смеси подавалась кислородно-гелиевая смесь. Мы изучали, как она действует на организм подводника, как действует повышенное давление.
Дизельные подводные лодки имели довольно ограниченное внутреннее пространство. Там все было подчинено размещению приборов и оборудования для выполнения боевых задач. Удобству размещения экипажа уделялось очень мало внимания. Этим отличались подводные лодки со времен Второй Мировой войны американские и советские. У американцев намного больше внимания уделяется условиям обитания команды в длительном боевом походе. Даже на дизельных лодках. А у нас даже на атомных лодках удобства экипажа на втором плане, хотя лодки больше по водоизмещению, чем американские. К чему я это говорю. Да к тому, что на дизельной лодке элементарных удобств не было. В подводном положении в туалет можно было сходить лишь в 2-х отсеках из семи. А если боевая тревога, то перемещения по лодке запрещены. Хочешь в туалет, а не моги, терпи. В нашем втором отсеке туалета не было, поэтому, чтобы даже удовлетворить малую потребность, приходилось выдумывать. Я взял в аптеке 2 трехлитровых банки с притертыми крышками, чтобы не пахло мочой. Поэтому мы с сослуживцами по отсеку в случае острой нужды могли написать в банки, которые потом выносились на верхнюю палубу и опорожнялись. А в туалет «по-большому» вообще ходили в туалете, расположенном в ограждении рубки за выдвижными устройствами (перископами). Там было просто отверстие в палубе, куда можно было оправиться. При погружении лодки все дерьмо смывалось водой. Несколько раз было, что я сидел на корточках в этом туалете, когда объявлялось срочное погружение. Успевал только быстро вытереть попу и натянуть штаны и схватить жетон. И сразу в люк.
И уж потом внизу в центральном посту, застегивал штаны, ширинку и ремень. Почему надо было брать с собой какой-то жетон. Это пришло еще с войны. Когда лодка всплывала, в отсеках, как правило было нечем дышать. Да и надо было справить естественные потребности и покурить. Давалась команда «Выход наверх по секторам». Из каждого отсека мог выйти лишь один человек. Он брал жетон, выходил на мостик в рубке лодки и вешал жетон на крючок. Помимо удовлетворения своих потребностей он выполнял и обязанности – наблюдал за воздухом.
Для подводной лодки враг № 1 – самолет, который мог появиться из облаков очень быстро. Вот воздушное наблюдение и организовывалось таким нехитрым способом. Спускаясь вниз, офицер или матрос брал жетон и отдавал другому моряку в своем отсеке, который выходил наверх и так же наблюдал за воздушным пространством. В случае срочного погружения командир или вахтенный офицер смотрел крючки с жетонами, не остался ли кто-нибудь на мостике, и только после этого задраивал верхний рубочный люк. Так что медлить с одеванием штанов на мостике подводной лодки было нельзя. Внутренними туалетами разрешалось пользоваться только во время автономных плаваний, когда соблюдалась полная скрытность и лодка всплывала только по ночам, чтобы проветрить отсеки и зарядить аккумуляторные батареи. Вообще моряки употребляли ограниченное количество жидкости и не очень часто ходили в туалет.
21 мая 1972 года Краснознаменному Тихоокеанскому флоту исполнилось 40 лет. Эту дату отмечали довольно широко во Владивостоке. Впервые был открыт доступ на корабли, стоящие у причала, жителям и гостям города. Наряду с крейсером, большим противолодочным кораблем, эсминцем, сторожевым кораблем, десантными кораблями была выставлена для показа и подводная лодка. Этой чести была удостоена наша субмарина. Мы только что вышли из ремонта и все было выкрашено свежей краской. В ту пору знаменитого мемориала подводной лодки С-56 на набережной Владивостока не было, поэтому желающих посетить подводную лодку было очень много. Да и пропускная способность её намного меньше, чем большого надводного корабля. Запускали посетителей через торпедопогрузочный люк в первом отсеке, а выходили они через аварийный люк последнего, седьмого отсека. Моряков, желающих подать руку посетителям, было очень много. Некоторые с большим удовольствием заглядывали под юбки женщин во время их спуска в лодку и выхода по вертикальному трапу, ведь тогда брюки женщины не носили. А я воспользовался моментом и устроил себе экскурсию по всем надводным кораблям, стоящим рядом с нашей лодкой у причала. Конечно, она была довольно поверхностной, кораблей было много и все хотелось посмотреть. Но все равно, я составил себе впечатление о нашем надводном флоте.
В начале июня 1972 года, наша лодка, почти месяц простояв в базе с загруженной торпедой с ядерным зарядом, вышла в море и взяла курс в Тихий океан, в район плавания американских атомных ракетных подводных лодок. Я уже писал, что в то время баллистические ракеты имели небольшую дальность полета и чтобы поразить цели на территории СССР американские лодки должны были приближаться в нашей территории. Районы их патрулирования находились к востоку от Курильской гряды. В случае обострения ситуации между СССР и США могло быть применение атомного оружия, в том числе запуски баллистических ракет с подводных лодок. Наша задача в этом случае была уничтожение американских лодок. Шли с соблюдением полной секретности. Всплывали только по ночам, предварительно прослушав обстановку гидролокаторами и эхолотами. На лодке была очень напряженная обстановка.
Мы прекрасно понимали, что в случае боевого применения торпеды со спецзарядом шансов выжить у нас практически нет. Это как одноразовый шприц, уколол и выбросил. Применять спецзаряд можно было только по американским ракетным подводным лодками, или по авианосному соединению, где авианосец охраняют многочисленные корабли. И если мы не погибнем от взрыва собственной торпеды, то уйти от кораблей охранения будет невозможно. Это показал опыт Второй мировой войны. Поход был тяжелый не только с психологической точки зрения. Океанская волна отличается от морской большим перепадом, качка другая и многие матросы её плохо переносили, многих рвало. Хорошо, что мы выходили в море не в период ураганов и в настоящий шторм не попали. Но зато были в районах с теплыми водами (течение Курасиво) и в летнее время. Жара в лодке стояла выше 40 градусов, кондиционеры только на время снижали температуру. Обезвоживание личного состава было очень большим.
Ночью, когда всплывали и производили зарядку аккумуляторов, лодка усиленно вентилировалась и жаркий наружный воздух заполнял все пространство лодки. В жаркую погоду запах солярки, прочно въедавшийся в одежду и душу каждого подводника, который плавал на дизельных лодках, вместе с запахом рвотных масс создавал непередаваемую атмосферу. Ограничения употребления пресной воды в некоторой степени компенсировались выдачей соков, но они плохо снимали жажду. Аппетит у многих членов команды значительно снизился, коки готовили намного меньше горячей пищи, чем тогда, когда мы выходили в море в зимнее время. Вообще эта автономка на меня произвела неизгладимое впечатление. Вот настоящий экзамен всего экипажа подводной лодки…
У меня есть книга американца Гэри Уэйра «Красный прилив». В ней на основании рассказов советских офицеров-подводников рассказана история противостояния подводного флота СССР и США в годы «холодной войны». Я на 100% согласен с тем, что написано автором о дизельных лодках Советского Союза. Вообще очень интересная книга и если кто-то захочет больше узнать о том периоде, советую прочитать её. Все так и было. Мир в то время ходил на грани катастрофы. Любой командир подводного ракетного атомохода мог начать Третью мировую войну с гарантированным уничтожением человечества. К счастью, обострение международной обстановки не достигло того предела, когда стороны могли бы применить атомное оружие, и мы благополучно вернулись на базу во Владивостоке.
Служба шла своим чередом. Комсомольцы избрали меня секретарем комсомольской организации экипажа. Я довольно часто ходил с матросами на всякие экскурсии по городу. Мы посетили и краеведческий музей, и другие достопримечательности этого полюбившегося мне города. Но это было летом, когда тепло.
А вот зимой было совсем не так уютно. Постоянные ветра заставляли кутаться в шинель, которую я специально оставил длинной. На утренних построениях на береговой базе все мерзли и мне даже больше нравились выходы в море, где нет ни суеты, ни построений, ничего того, что омрачает службу. Меня скоро сделали пропагандистом для проведения политических занятий среди матросов. С одной стороны, это заставляло следить за событиями в стране и за рубежом. А с другой – было дополнительной нагрузкой, к занятиям надо было готовиться, чтобы проводить их на хорошем уровне.
Вообще выход в море из бухты Малый Улисс в зимние месяцы был весьма сложен. Перед выходом катер ледового класса раскалывал лед для прохода лодки и потом уже своим ходом лодка выходила в море. Но как бы не было долог период зимней погоды, наступала весна и выходы в море для отработки задач боевой подготовки становились все чаще и чаще. Мне все больше приходилось выходить в море на чужих лодках, так как количество врачей на эскадре не увеличивалось.
Память о моей службе на подводных лодка и противостоянии между СССР и США всплыла в 1991 году. В ту пору я был первым заместителем заведующего отделом здравоохранения Хабаровского крайисполкома. К нам в отдел позвонила женщина и сказала, что в Хабаровске находится член наблюдательного совета онкологического центра в американском городе Сиэтле и хотел бы встретиться с руководством края. В этот период мы активно прорабатывали вопрос с Министерством здравоохранения РСФСР о строительстве в Хабаровске современного онкологического центра, поэтому решить вопрос о встрече американца в нашем Белом Доме было просто. Мне поручили провожать американского представителя к председателю крайисполкома Данилюку Н.Н. Встретились с ним на пороге Белого Дома. С американцем, высоким пожилым человеком была такая же пожилая женщина в качестве переводчика. Оказалась русской, жена советского генерала в отставке и американец приехал к ним гости. Будучи членом наблюдательного совета онкологического центра, получил задание проработать вопрос о взаимодействии с русскими оснащение будущего центра современным оборудованием.
Поднимаясь в лифте, переводчица сказала, что американец в прошлом был адмиралом ВМС США, сейчас в отставке. Я сказал, что тоже служил во флоте на подводных лодках в начале 70-х годов на Тихоокеанском флоте. Услышав перевод, американец очень оживился и сказал, что в этот период он был командующим противолодочными силами 7-го американского флота, т.е. моим непосредственным противником. Потом, после встречи с председателем крайисполкома, наш разговор о флоте продолжился. Но у меня были запланированы мероприятия, поговорить с американцем времени не было. Но чувствовалось, что американцу хотелось продолжить эту тему и я получил приглашение на вечер в квартиру отставного советского генерала, где остановился отставной американский адмирал. Купив бутылку хорошего коньяка и цветы, вечером я подъехал по указанному адресу.