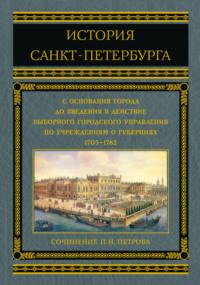полная версия
полная версияЦарский суд

Петр Николаевич Петров
Царский суд
© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 201
* * *I
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Недалеко от Невы-реки, где подходил к ней проселок от Ямы-города, за Мгою, в Водской пятине, в половине XVI века стояло усадище Раково, принадлежавшее зажиточному, по слухам, дворянину Нечаю Коптеву по прозванию Горихвост-Щука. Усадище это, выглядывавшее из-за леска, казалось чуть не городом со стороны дороги. Оно обставлено было целым лабиринтом изб, связей, клетей, клетушек, чуланов, амбаров, напогребиц, мыленок и приспешен. Издали казалось все сооружено на славу, а вблизи представлялась странная смесь ветхого, сгнившего, чуть державшегося строеньишка рядом с небольшим количеством построек из новых чистеньких бревен. Совмещение почти несовместимого обдало бы новое лицо любопытного созерцателя – если б такой нашелся – на первый взгляд тяжелым ощущением, бросая ум в море загадок: как тут разобрать, по этому сброду, каков хозяин – скряга или самохвал ни с чем, загребала чужого или расточитель? Вопросы эти так и оставались бы открытыми, даже для знавших хорошо владельца усадища. Да, вероятно, и сам Коптев не ответил бы самому себе: что он за человек? Вечно, бедняжка, в заботах, по горло в хлопотах, суется разом в двадцать мест: здесь перевозку срочную примет в немецкую сторону, там подряд перехватит у заправского торговца, сам же затянет, не зная, как оборудовать новое дело; в другом месте лес сторгует, да тянет-тянет продавца и потом сведет его с третьим либо с четвертым покупателем, сумея и задаток воротить свой, и стянуть еще что-нибудь с торговца да отступного, на свой пай, с покупателя. Усадище же его на торной дороге к Ореховцу, где со свейскими людьми торг идет отменный и нажива есть для местных помещиков – кулаков заведомых, разыгрывавших роли заправских биржевых маклеров нашего времени. Нечай был между ними из первых вожаков и, по словам его, успевал на обухе рожь смолотить как пить дать. Но, слушая такие его рассказы, приятели переглядывались друг с другом да хихикали в рукавицу. Знали они, что Нечаю все его затейки только наполовину удавались из-за излишней спешки, причем вечно что-нибудь не клеилось и лопалось. Тем не менее ловкость и изворотливость, как мы заметили, помогали торопкому дельцу каждый раз выпутываться из затруднений в момент самого положительного запутыванья их в петлю сердечному. Беда на носу призывала в дело все средства почти гениальных способностей этого хлопотуна, и он ускользал из западни, к явной досаде соперников, делам которых чинил неудобства своим мгновенным подвертываньем и захватом, казалось, уже слаженного торга.
Жалобниц и исковых на Нечая подавалось новгородским воеводам видимо-невидимо, хотя большая часть претензий оканчивалась ничем или мировою. В глазах дьяков воеводских Горихвост не казался сутягою, а малоразумным якобы и неосторожным ради своей пользы. Прикидываться же он умел угнетенной невинностью и точить слезы из глаз был мастер; при случае, для вящей силы красноречия, чаще других раскошеливаясь и умасливая «великих благодетелей», дельцов приказных светленькими новгородками. Дни рождений и тезоименитств нужных людей он, при всей кажущейся безалаберности, крепко помнил, являясь первым к заднему крыльцу с памяткою в виде связки или узелка какого-нибудь лакомства либо с более ценными приносами, смотря по человечку и по случаю предстоящей в этом человечке нужды в содействии. Такая манера заручаться помощью властей в XVI веке показывала в Нечае верный взгляд и нюх. Власти ведь – все для простых людей, особенно в пятинах. Тогда как личность человека неизвестного в новгородском приказе для орудовавших делами за воеводу в отчине Святой Софии ничего не стоила; попасть в кандалы аль в кутузку при первой жалобе, задолго до разбирательства, было явлением здесь обыденным. Недаром Горихвост прозывался и Щукой, оправдывая буквальным применением к своей личности реченье пословицы: «Затем в море щука, чтоб карась не дремал». Дремлющими карасями для Нечая были крестьяне да своеземцы мелкопоместные, шедшие на удочку его вкрадчивой медоточивой речи, благодаря которой устраивал он сделку с новым человеком в несколько минут. Успевал расспросить на дороге при встрече: что везет, куда и много ли; да тут же, засыпав целыми потоками самых обольстительных обещаний, сговорит встреченного везти к себе на двор товар и подождать малую толику. Со двора же Нечая Севастьяныча бедняку никак не приходилось выбраться иначе как порожняком, а расплаты ждать, если таковая когда-нибудь наступала… так долго, как можно было только оттягивать, бессовестно смеясь в глаза простаку. Все в околотке хорошо знали широкие ворота усадища и не ездили даже мимо, боясь встретиться с ласковым владельцем на дороге с поклажей. Мужички даже простосердечно признавались: «Ведь Нечай Севастьянович славно обойдет тебя, коли навстречь попадешься… хоша всех святых причитай… жмурься как от нечистой силы, а уж не видать тебе своего возика как ушей своих, а в мошне алтынов».
Но вот пожаловали гости к Щуке-Горихвосту – и гости нельзя сказать, чтобы обычные. Гости эти почтенные, нарядные, которым подают даже угощенье. Говорится, гости нарядные, принимая в соображение местные порядки Лужской половины помещиков Водской пятины, где попросту в разъездах у себя по деревням дворяне езжали зимой – не как теперь, а в белой сермяге, в кафтанах эстских, опушенных крашениной, да в бараньих высоких шапках с затыльниками. А теперь подъехавшие с бубенцами на четырех тройках гости были в новых хребтовых лисьих шубах, в лазоревых однорядках лундского сукна да в кафтанах, отливавших черленью; кони и сани были праздничные, шлея передней тройки – с серебряной насечкой на новых ремешках. Под дугами, испестренными золотом и яркими красками, болтались, издавая приятный серебристый звон, торжковские колокольчики. На первой тройке ехали двое мужчин: пожилой и молодой – рослый молодец, пригожий и румяный как маков цвет. На нем был охабень, заморским сукном крытый, а из-под охабня выглядывал кафтан, тоже тонкого сукна, с пуговицами серебряными, гладкими. На шелковых кудрях ухарски надвинута была шапочка на душках лисьих. Подпоясан молодец был красным платком сверх опояски, за которою кроме мошны заткнут был угорский нож. Пожилой мужчина, худощавый, рябоватый и с виду суровый, носил темно-зеленый кафтан под шубою, а в правом ухе, наискось просеченном, у него вдета серьга с рубином. Этому признаку достатка и любви к роскоши соответствовало и обилие золотых перстней на руках; перстни у приезжего гостя почти все были с жуковинами[1], которые заменяли печати. Это давало право заключать о владельце их опять как о деловом человеке, ведшем, скорее всего, значительные торги в разных местах. Действуя через сидельцев, разумеется, торговые люди по возможности часто осведомлялись о количестве прихода в денежных ящиках своих лавок – и каждый раз, проверив и пересчитав казну, печатали выручку своей печатью, всегда возя ее в виде жуковины на пальце. Такой несомненный признак торговых людей, как обилие жуковин, действительно разом открывал делового откупщика, каким подлинно и оказывался Захар Амплеевич Осорьин, за постоянно выгодное ведение своих торговых дел прозванный Удачею. Молодой человек, ехавший с ним в одних санях, был сын его Гаврила, по дню рожденья названный Субботой; теперь завидный жених. Два лета уже отбыл он на службе великому государю на Низовье. Женщина, с ними вместе сидевшая, была сваха. А на других парадных санях ехали родные дяди Субботы, братья да шурья Захара Удачи. Приехали они к Горихвосту свататься.
Весь дом Коптевых уж с ночи на ногах; всего наготовлено вдоволь, как и следует, к рукобитью дочери, уже засватанной.
С Удачею Нечай живут не один десяток годков в любви и согласии. Удаче поверяет Нечай свои подчас и крепко затруднительные обстоятельства, находя посильное содействие и помощь не одними советами, а если требовалось, и казною царской. Удача держал на откупе винные торжки да выставки во всем Спасском присуде, внося в казну великого государя восемьдесят четыре рубля двадцать алтын полтретья деньги новгородским счетом. Отвагой своих операций умный Удача бесконечно превосходил кулака Нечая, хотя ради барышка и сам пускался во все тяжкие, действуя сперва одной уловкой с другом своим в вопросе о привлечении властей. Но кого не ослепляет мзда? Неудивительно, что с развитием оборотов и Удача возмечтал о себе больше, чем ему, мелкой сошке, полагалось. Из прежнего угодника Удача – в тех случаях, когда вины за собою не чуял, – стал огрызком со счетчиками. Да засылать начал грамотки к воеводе с благовременным донесением о количестве вымогаемого дьяками с него, Удачи, собственно на свой пай, а не в мошну воеводскую. Мог ли подобный образ действий двоедушника нравиться, до кого касался он, в приказной либо в счетной избе? Как не понять, что из такого благовременного извета произойти должно со стороны воеводы? Позовет к себе его милость дьяка Истомку либо Казарина – кому перепало не в очередь – да потребует с походцем непринадлежащий кус: знай, значит, сверчок свой шесток!.. Точат, бывало, сердечные, зубы на мошенника Удачу. Клятву дают подстеречь его, душесмутника, сосуд дьявольский, Искариота… а ничего не поделаешь: увертлив ворог! Не насчитаешь на него ни алтына – сам горазд костями брякать: за год знает, когда и где вносить. Целый десяток дьяков и подьячих сам плутням выучит! Да и зубаст к тому же… совсем не в пример щедрому Нечаю, правда, блудливому, как кошка, да зато не больше зайца и храброму. Прикрикни на него подьячий, он уж и лезет за голенище. Не то чтобы дьяку, его милости перечить! Недаром говорит пословица: ласково телятко две матки сосет. Дела приветливого Нечая Севастьяныча ползут теперь без сучка без задоринки, и его усадьбе суждено вскорости совсем преобразиться. Труха, почитай, последнюю зиму торчит. Лес возить новый станут на тесовый терем да на три повалуши с сенями; на мыленку новую сруб куплен, и тын уж обточен, никак, с осени. Челядь вся принаряжена, а уж о хозяйке да об дочерях и молвить нечего. Глашенька, меньшуха, в невесты Субботе Осорьину тогда еще посулена, как Удача был единственной подпорой шестодела Горихвостова. Может, тысячу раз заговаривал Нечай с Осорьиным об этом самом деле, покуда он наконец дал себя уломать на породненье с коптевским родом. И то сказать, семья Осорьиных богата была людьми видными, столбовыми, не вдруг способными и глянуть приветливо на колоброда Нечая, мужика негорделивого, похожего к тому же на суму переметную, в которой, словно как и в голове у этого Щуки, семь пятниц на неделе. Трудно было Нечаю Севастьянычу уломать упрямого медведя Удачу, тогда ему нужного человека; но после того утекло много воды. А детки, Глашенька да Суббота, растут вместе, величаются женихом да невестой. Жена Удачина, Прасковья Пантелевна, – не к ночи, ко дню будь помянута, – не могла надохнуться на эту пару ребяток: все Глашеньку дочкой называла. Да вот скончалась преждевременно – сердечную по весне кони в полынью завезли; хоша и вытащили спешно живую, да захирела баба с того дня и Богу душеньку отдала в то же лето. Как умирала, так все одно мужу наказывала: окрутить Глашеньку поскорее с Субботой, чтобы меньше убивался сынишка по матери. Удача дал слово жене – и сдержал его. Теперь заявил он Нечаю за неделю, что приедет в понедельник дело доброе совершить – по рукам ударить с ним.
Вот этот понедельник и наступил сегодня. Удача с сыном и родными заехали попировать к старому другу, приготовившемуся как следует и стол нарядившему совсем в порядке. Только сам-то друг и сват с чего-то оказывается словно не в себе, так что трудно узнать Нечая в этом озабоченном думце, то и дело почесывающем жирный загривок, поводя из стороны в сторону длинным усом, начинающим седеть. Обычно благообразная фигура сытенького и чистенького Нечая Севастьяныча на этот раз была на себя не похожа, уже потому одному, что он потерял обычную словоохотливость и стал не в меру сдержанным, к удивлению даже жены – Февроньи Минаевны, знавшей супруга, надо полагать, лучше всех.
И к чему бы, казалось, не в себе быть теперь Нечаю Севастьянычу, как дошло до исполненья одного из самых задушевных его желаний: видеть в лице дочери соединение его семьи с единственным сыном его друга и пособника, Удачи Амплеевича Осорьина?
Да и у хозяюшки Нечая Севастьяныча все как-то не клеилось в этот день. Перепечу сготовила сама – мастерица первая по этой части, как всем было известно, Февронья Минаевна, – посадила в печь, да дура Хаврошка, видно, жару напустила разом, раскололась перепеча, стыдно людям показать: скажут – невеста краденая! Курей верченых обжарила преотменно – с вертела снимать стали, обземь грохнули, в песок… Романею принялись разливать – кран из рук у ключника выпал, вино пролилось. Поторопилась сама хозяйка обрядиться, только хвать за сорочку – колокольцы залились на дворе… приехали гости – значит, выходить нужно навстречу хозяйке. Она, сердечная, ну хватать на себя сарафан да душегрею… Бежит, подергивает ее по лестнице, а навстречу мамка – глянула, крикнула не в себе: «Матушка государыня, у тебя душегрея наволочена наизнанку…»
И все-то выходило так несуразно да неладно.
Пооправилась хозяйка. Выступила на крыльцо. Глядь – хозяин куда-то запропастился: нашел, вишь, время часом скатать на Назью, на починок. Другого часу не нашел?.. И должна, бедняжка, как вдовица, одна Февронья Минаевна гостей-мужчин в светлицу вести да речь заводить: как спали-ночевали? Бабье ли дело это у мужиков спрашивать? Ладно, что свашка подоспела. Вдова на все руки, еще из молодых, а уж бой-баба!
Помощь Меланьи Тимофеевны оказалась вполне подпорой для хозяйки, не привыкшей объясняться при всем мире – при народе; а тут были люди, в первый раз ею виденные. Удача же с сыном хоть и свои почти – да с некоторого времени Нечай хозяйке своей запрещал со своим старинным другом без себя видеться: должно быть, взбалмошному примерещилась какая ни есть беспорядочность и нелепость. Вот Февронья Минаевна махнула рукой и решилась помалкивать да приглядывать: не выйдет ли чего наружу от сурового Удачи? Вдовец еще в поре, да зверем глядит, и как тут разобрать: заправду хмурится али гнев скрывает, что не удается так повернуть дело, как хочется ему? Февронья Минаевна сама знала между тем, что ей не бог весть какая старость: тридцать четыре только стукнуло на Владимирскую летнюю, а слыла она между знакомыми за красавицу. Дочка-то Глашенька совсем в мать уродилась: лицо круглое, белое, с ярким румянцем; грудь высокая, стан самый обольстительный, глаза искры мечут из-под длинных ресниц; руки наливные, а коса… коса до полу, что твой шелк шемаханский, гвоздичного цвета.
Как, с такой красотой, растя да видясь каждый день, не заразить было сердца навечно такому горячему парню, как Суббота Осорьин? Немало было слез и у Февроньи Минаевны (любившей Субботу как своего уже), когда его в новики поставили да справили с доезжачим, с Архипом Ястребом, на Коломну по третье лето. Глашенька разнемоглась, сердечная, да и сама Февронья выла голосом. Удачи дома не было, а потому Суббота отъезжал на службу царскую от Коптевых. Зато уж как воротился после Покрова, так целую неделю из Ракова домой и глаз не показывал: все названая мать да нареченная не могли наглядеться на красавчика. За ним один только порок: вывести его можно из себя очень скоро – стоит только поперек говорить начать. Тут тебе Суббота, неукротимый как аргамак степной, не только зубы покажет, но готов в гневе растерзать человека, успевшего довести его до такого состояния. Отец его – другого склада: отомстит, пожалуй, сторицей, но сумеет сдержать пыл, когда нужно, и ласково еще обойтись с ворогом, пока не успел ему петлю затянуть. «И тогда еще успею натешиться», – решал он, готовясь к верному мщению целые годы! Может, и Суббота, когда поживет подольше, дойдет до батькиного сдерживанья, а теперь так и самому Нечаю Севастьянычу готов ус поокоротить, если бы вздумал тот – хоть бы и у себя в терему – насмеяться или не путно чем упрекнуть пылкого нареченного зятя.
Вот хоть и нонеча: и отец и сын Осорьины, стоя с хозяйкой на лестнице перед теремом, готовы бы были, чего доброго, осведомиться: своя, родная, али накладная бородка у Нечая Севастьяныча? Ведь по его милости они в такой важный день словно с левой ноги встали и не вовремя пожаловали положить конец сочетанью, давно решенному.
Маланья Тимофевна, зорким взглядом свашьим подметив затруднительность хозяйки в обычной роли при приеме дорогих гостей, разом положила предел затрудненьям, грозившим только усложняться с каждой минутой.
– Милостивые бояре, нас, баб, не корите, что перед теремом стоите. Хозяйка, видите, молодая, без мужа словно чужая… рот открыть не смеет али за скобку взяться робеет, затем что к доброму делу все рано наряжено, да она, вишь, сожителем не приважена вас, мужи честные, привечать и перед порогом встречать. Я так, бояре, баба бывалая и смолоду не бывала такая вялая: не обессудьте же, в избу ступайте да хозяйку не осуждайте. Я за нее все по чину отправлю и то-то вас, родных, позабавлю! Спросить было тебя, дорогой мой боярин Удача, спал ты ладно ли, встал, верно, не плача? У хозяюшки пальчиков не целовал, затем что, понятно, и во сне ее не видал. Давно, друже, вдовствуешь да постишься. Погоди малость… исправно здесь угостишься! А как домой поедем с тобой парочкой, чего доброго, не быть бы нам бараном да ярочкой…
Раздался общий смех на балагурство находчивой свахи, успевшей незаметно растворить дверь в повалушу и бегом переступить через порог.
– Теперь, честные бояре, я уже совсем в ударе… Хозяйке место не уступлю, а с Нечая Севастьяныча за верную службу с лихвой слуплю… Прошу на богов креститься да по чинам садиться.
И, подхватив под руку Удачу с сыном, скороговорка Меланья так ловко их поставила, что они невольно стали креститься, а, покуда крестились, сваха схватила подносик со стола, покрытый ширинкою как следует, всунула его в руки хозяйке и на ухо ей проговорила:
– Держи да кланяйся, за мной иди… Я наливать буду.
Так и поправилось дело.
Повалуша была в три окна, по времени нарядно убрана: лавки покрыты новым суконным полавочником, стены завешаны коврами да новинами, вперемежку. В большом углу стол ломился под тяжестью наваренного и нажаренного. Посередке стояла покрытая ширинкой перепеча да солонка перед ней. Только садись за стол да угощайся! Гости разместились по лавкам, и поправившаяся хозяйка, подходя к каждому, спрашивала о здоровье и просила откушать романеи, ловко наливаемой свахой… У Февроньи отлегло от сердца.
Вот подъехал и хозяин. Извинился как-то непутно. Никак еще сквозь зубы процедил: «Что рано пожаловали?» Вот какой грех!
За стол сели. Едят да пьют, а речь не клеится что-то. Удача не раз взглядывал на друга сердечного. Подали курники. Удача и говорит хозяину:
– Выводи-ка свою цыплятницу, пора нашему куру и погоготать с невестой… Суббота почитай что все глаза проглядел: куда ухоронили вы Глашеньку?
– Убирается еще… – процедил нехотя Нечай, не взглянув на будущего зятя и как-то боязливо.
Этого Удача не приметил, а Суббота невольно кинул глаза на запертую дверь из светлицы в повалушу и далее, на жилую половину дома Коптевых, где еще накануне, прощаясь с Глашенькой, он уговорил ее выйти на беседу до обеда и сесть с ним рядом.
Слова будущего тестя отозвались на сердце у горячего Субботы каким-то нехорошим предчувствием.
Он старался не поддаваться этому навязчивому, томительному ощущению, но какая-то сила неприятно теснила грудь, все плотнее и больнее сжимая как бы в тисках молодое сердце жениха. Влюблен он был в свою суженую давно уже. Только не давали они оба себе отчета во взаимных чувствах. Желание быть вместе, так естественное в людях, вместе выросших, и объясняемое привычкой, было на самом деле пламенной любовью, всю силу которой понял теперь Суббота, в первый раз в жизни вынужденный не видеть Глашеньку. Уже не один час сидит он в терему и путается в догадках: для чего так долго тянуть эту канитель обычной чинности?
«Сколько, однако, ни тяни, а все же невесту должны в рукобитье ввести, даже незнакомого жениха потчевать, как ударят по рукам. Надо хоть батьку поторопить, коли здешние мешкают».
И он стал шептать отцу на ухо, должно быть, горячую отповедь за медлительность.
Удача встал и, покрыв полою кафтана правую руку, обратился к хозяину с односложным предложением: «Пора!»
– К чему спешить!.. – отрезал Нечай, озадачив уже вконец следивших за его сегодняшним поведением всех Осорьиных, переглянувшихся довольно недвусмысленно друг с другом.
Медленно и как-то неохотно все поднялись с мест своих, кроме хозяина, как будто ни в чем не бывало кушавшего курник.
Удача раскрыл рот, начиная приходить уже в гнев на выходящие из ряда шуток, как он думал, обидные странности хозяина, не заподозревая его, впрочем, ни в каком особенном умысле, как в терем вбежал испуганный приказчик Осорьиных и на ухо сказал несколько слов мгновенно побледневшему своему старому господину.
– Я должен домой ехать сейчас, – сказал Удача громко Нечаю. – Управлюсь – приеду… – прибавил он как-то неуверенно.
С невозмутимым хладнокровием Нечай ответил:
– Как знаешь!
Гости медленно опустились на скамьи, когда, ни с кем не простясь, вышел Удача из терема.
Хозяин посидел несколько времени помалкивая, да потом, вдруг обратясь к жениху, молвил ему с каким-то особенным выражением в голосе – не то дурно скрываемого злорадства, не то язвительной, далеко и болезненно хватающей насмешки:
– А тебе, Суббота Удачич, что, бишь, я смолол… Захарыч, батька не наказывал себя догонять?
– Ты слышал сам, Нечай Севастьяныч, что отец просил и наших дорогих гостей обождать здесь… затем что и сам воротиться хотел…
– Это, голубчик, не в его теперь воле… Смекаю я, чево для его милость потребовали. Коли хошь, я тебе на ушко поворожу…
Субботу передернуло словно. Неуверенно и с такой робостью, какой ни разу еще за жизнь свою не испытывал, он подсел к Нечаю. Сердце его сильно забилось при первых же зловещих словах хитрого кулака, старавшегося произносить так, что все от слова до слова могли слышать в комнате:
– Батюшку твоего потребовал недельщик[2], чтобы отобрать у вас усадьбу и поместье на великого государя за неявку на срок к походу с князем Мстиславским да… за умедленье взносов… на вторую треть сего семь тысяч шестьдесят шестого лета, оброчного, корчемного и прочиих…
– Это самое, батюшка, кто те сбрендил так непорядочно? – вспылил Суббота, взбешенный слухами, как он думал, неосновательными, пущенными ворогами.
– Чего брендить… самая истина! – возвысив голос, отозвался Нечай обиженным тоном. – Для нас все едино, хоша и тебя горяченького скрутят, тверди зады на досуге да знай, паря, только поворачивайся на правеже… А ни батьке, ни твоей милости этой дорожки, паря, не отбыть… как пить дать.
Два брата жены Удачиной, Молчановы, приехавшие в сватах, молча вышли из терема, вскочили на коней и помчались к усадьбе Осорьина.
– Чтобы этому Нечайке ни дна ни покрышки не было! – произнес старший из братьев, выезжая за широкие ворота раковской усадьбы. – Смекаю я, что он это со своими клевретами приготовил, за добро да за хлеб-соль, нашему Удаче. Говорил ему не раз: не выводи из петли змею такую, как Горихвост проклятый… Вот и сбылись, на беду, мои искренние слова. Затеял еще в род наш вводить эту язву? Жаль Субботу да Глашу… Нечаишко, говорю тебе, всю каверзу эту устроил, вот те бог, он, чтобы отпятиться от Удачи.
– Да я все не понимаю, братец, больно ты хитер-мудрен стал… Кому, скажи на милость, больше надобности: Удаче ли в Нечае или Нечаю – в нашем зяте?
– Оно так-то так… да черт влезет в бессовестного кулака!.. Может, у него расчет-то переменился… разбогател сам, может… так и пятиться пора. А что его рук дело вся эта заминка сегодняшняя, так рассуди да припомни все по порядку… как и что с нами проделали Нечай с хозяйкой?..
Ездоки, уже своротив с большой дороги, пересекали наискось лужайку, занесенную неглубоко снегом, свеваемым на дно овражка. Лепясь к нему, за изгибом, в ложбине, приютилось Дятлово, где жил своею оседлостью Удача Осорьин как вдовец, не прибавлявший к своему дому покуда никаких пристроек, живя на другом конце поселка дворов в двадцать, не больше. Обыватели были народ смышленый: больше – возчики. Дома не бывали по целым летам, оттого избенки у них и не отличались исправностью.
Переезд был отсюда недолог, и спустя минут двадцать Молчановы доехали до околицы, где совершенно неожиданно для них ворота оказались притворенными. Уже на стук их выскочили из-за ворот двое поставленных на сторожку понятых и спросили, чего им нужно.
– Мы к хозяину едем, к Удаче Амплеичу Осорьину.