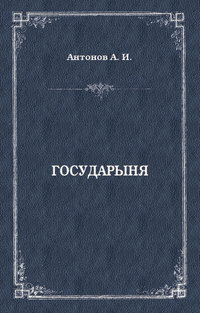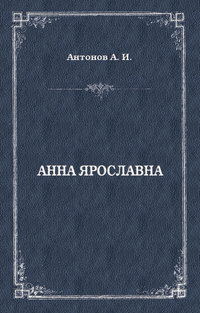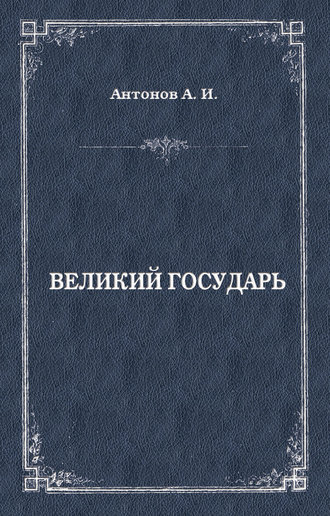
Полная версия
Великий государь
– Что там, люба? – спросил Сильвестр.
– Суд и расправа у нашего царя скорые. Нынче в ночь и погонят сердешных, – ответила печально Катерина.
Помолчали. Сильвестр еще постучал по пластине меди, лежащей на наковальне. А Катерина подошла к огню и сосредоточенно смотрела на него. Зрачки ее зеленых глаз сузились до крапинок, но к огню, или от огня к глазам, протянулись два луча. И Катерина увидела то, что раньше не давалось ей. На язычках пламени горна светился образ князя Федора в одеянии архиерея, но с патриаршей панагией на груди. На голове у него не было ни митры, ни клобука. А на губах под опрятной русой бородой играла улыбка. Да и глаза излучали радостный свет. «Господи Боже милостивый, спасибо, что открыл истину!» – воскликнула в душе Катерина. А как погасло видение, ясновидица тихо сказала Сильвестру:
– Родимый, я видела князя Федора. Через плечо омофор и панагия на груди. Быть ему патриархом всея Руси, как наречено пятнадцать лет назад.
Екнуло от ревности сердце Сильвестра. Знал он, что до замужества Катерина любила князя Федора. Не осталось от него сокрытым и то, что вспомнила она в сей миг березовую рощу на берегу Москвы-реки за Звенигородом и хоровод обнаженных дев в полуночную пору на Ивана Купалу. Сильвестр видел, как девы разбежались от костра по роще и как Катерина попала в объятия князя Федора, как он подхватил ее на руки и унес в глубь леса под вековой дуб, и там свершилось таинство их сближения. Тогда-то Катерина и сказала молодому князю, что ждет его в будущем. И теперь в языках пламени Катерина все увидела вновь, возвращаясь к языческой поре юности. Сильвестр и свое в памяти ворошил. Было такое, когда и он подбирался тайком к девичьим хороводам, и не однажды умыкал юных дев и отдавался вместе с ними во власть бушующей молодой плоти. И ему ли упрекать Катерину в том, что он не первым познал радость близости с нею. Да вот теперь они уже многие годы торжествуют вдвоем, потому как в этой женщине, рожденной в пламени, огонь любви к нему разгорается с каждым годом сильнее. Сие он знал точно.
Сильвестр подошел к Катерине, обнял ее со спины, прижал к груди, и они долго смотрели на огонь вместе и видели общее – себя в природном естестве. Молча они ушли из кузни и вошли в избу. И там, в уединении, дали волю своей горячей страсти. Ловкие руки Катерины раскинули на ложе чистые простыни. Потом же она скрылась за печью, сняла одежды, обмыла теплой водой груди, живот и все ниже, и пока натиралась благовониями, побудила раздеться Сильвестра. И он совершил обряд чистоты. Катерина ждала его на ложе, нежилась в ожидании мужа. И он опустился рядом. Он поцеловал ее девичьи груди и жаждущие губы и счастливые, пламенеющие глаза. Он готов был утонуть в своей возлюбленной семеюшке и смеялся и ликовал. Да Катерина, горя от нетерпения, побудила Сильвестра спрятать детородный уд в материнском лоне. И они предались забвению. И одному Богу было ведомо, сколько времени они блаженствовали, и казалось, что конца не было видно их жажде близости. И было похоже, что они забыли обо всем на свете. Ан нет. Все было проще и мудрее. Они свершали свой ритуал пред долгим расставанием. Так уж у них повелось в течение всех лет супружеской жизни, потому как помогало беречь себя в разлуке от бесовского наваждения. А дело у них всегда оставалось главным.
И когда день склонился к вечеру, Катерина собрала Сильвестра в дорогу, как и прежде, положила в дорожную суму все, что нужно путнику в долгом пути по диким местам. И про чистое исподнее белье не забыла, и баклагу с вином уложила, чтобы поддерживать в пути силы.
Расставались они в тот час, когда на землю опустилась ночь. Они увидели слева серпик народившейся луны и оба подумали, что это к удаче. На прощание Сильвестр сказал:
– Как вернусь, помчим в Казань. Ксюшеньку хочу обнять и подержать на руках, в глазыньки посмотреть.
Катерина легко ударила мужа по плечу:
– Господи, зачем травишь душу. Уж я-то и вовсе извелась по доченьке. Но в благости Ксюша, хранимая отцом нашим Гермогеном.
Сильвестр поцеловал Катерину, молча поднялся в седло и, не оглядываясь, покинул двор. Конь ступал тихо по мягкой земле, и никто не слышал, не видел, как ведун в какой раз покинул ночью свой дом.
Катерина еще постояла у крыльца, закрыла конюшню и поднялась в дом, моля Бога о том, чтобы сохранил в пути ищущего истину, и прочитала молитву о путешествующих.
Глава третья
Изгнание
Князь Федор Романов знал, за кого молить Бога о сохранении жизни. Он не сомневался ни минуты в намерении царя Бориса лишить его живота. Будь на то воля Бориса, он бы не только его, Федора, отправил на плаху, но и всех братьев послал бы на казнь, а прежде всех отрубил бы голову князю Александру. Но Всевышний лишил царя Бориса той воли и наградил ею вдвойне патриарха всея Руси Иова-боголюбца. И когда на совете Боярской думы боярин Семен Годунов сказал, что злоумышленники братья Романовы заслуживают казни, что, казнив их, государь заслужит благодарность россиян, когда царь Борис встал, руку поднял, призывая Боярскую думу к вниманию и хотел уже сказать невозвратное слово, сидевший рядом с царем патриарх тоже встал и поднял патриарший посох, трижды стукнул и властным голосом произнес:
– Именем Господа Бога слушайте, дети мои, слово архиереев русской православной церкви. Мы, радетели за душу помазанника Божия царя Бориса, склонны к тому, чтобы наш государь всегда был милосерден и не казнил неправедно, но миловал во благо себе и державы. Грех Романовых очевиден, отравные зелья попусту не хранят. Но мера их греха такова, что заслуживает токмо отлучения от града престольного и покаяния в молитвах. Вижу одну праведную меру: удаление Романовых в дальние обители, дабы там очистились от дьявольского промысла и обрели Господа Бога в душах. Инших сидельцев, по родству и свойству близких к Романовым, милостью согреть царской и отпустить по домам с Богом.
Святейший хорошо знал право церкви, право патриарха – духовного отца всех россиян. И потому был тверд и добился своего: смертные приговоры не были вынесены Боярской думой. Она хотя и утвердила обвинение Романовых в том, что они пытались достать царство, но согласилась с патриархом: сослать виновников в отдаленные монастыри и скиты. В одном Дума не вняла голосу первосвятителя. Вместе с родом Романовых ссылались князья Сицкие, Черкасские, Лыковы, Салтыковы, а с ними многие из дворовой челяди.
Князь Федор Романов был приговорен к пострижению в монахи и ссылке в Антониево-Сийский монастырь Двинской области, в дикие северные места. Жена Федора, Ксения, тоже была пострижена в монахини и сослана в Заонежье. Два брата Федора ссылались в Пермскую землю. А богатыря князя Михаила отправили в тюрьму сибирской Наробы и там приковали цепями к стене.
Царь Борис не пощадил даже малолетнего сына Федора Романова Михаила, коему в эту пору едва исполнилось четыре годика. Его отлучили от матери и сослали в Вологодскую землю вместе с князьями Черкасскими.
Вскоре же после приговора всех осужденных спешно и тайком, в ночную пору вывезли из Москвы и под конвоем погнали в места заточения. Но как не были хитры и осторожны слуги царя и дьяки Разбойного приказа, им не удалось провести россиян. У Романовых и их сродников в Москве оказалось много сторонников и друзей. И видели приставы конвоя, как за ними шли до застав сотни москвитян. Когда же горожане спрашивали, куда гонят опальных, приставы отвечали и не скрывали, в какую землю держат путь. И только приставы, которые сопровождали возок с Федором Романовым, вели себя неприступно, и кое-кто из москвитян получил плетей. Сильвестр не показывался конвою на глаза и сопровождал его в отдалении до Дмитрова, до Калязина, до Мологи. За Мологой, когда конвой шел уже берегом Шексны, с Сильвестром случился казус. Он уже вывел коня с постоялого двора, чтобы ехать вслед за конвоем. Но к нему в этот миг подъехали два стрельца и один из них, уже в годах, с сивой бородой, потребовал от ведуна:
– Ну-ка назовись! Да не лухти!
– И назовусь, – не дрогнув, ответил ведун. – Да ежели ищете рудого, то скачите вслед ему, там и увидите близ конвоя.
А пока стрельцы переглядывались меж собой, недоумевая, Сильвестр покинул постоялый двор и легкой рысью двинулся по дороге на север. Он ехал и думал о том, кто выследил его. И вспомнил, что в Дмитрове видел Бартенева второго. А тот знал, кто такой Сильвестр, и поди донес, кому следует. И теперь его ищут. Да вот уже и нашли. Что ж, решил Сильвестр, пока он не узнает, куда гонят князя Романова, не свернет с пути, даже если за спиной будут стражи.
Так и ехали весь день: Сильвестр – впереди, а за ним на расстоянии в двадцать сажен – стрельцы. Вот уже и Шексна ушла влево. Дорога вкатилась в мрачный еловый лес, где за каждым деревом можно было скрыться. Но Сильвестр спокойно продолжал путь, и, похоже, стрельцов это устраивало. Они были уверены, что это и есть сам Сильвестр, коего они ищут, и теперь сочли, что он у них в руках. Они разговаривали меж собой, и каждое их слово на лесной дороге, словно по трубе, долетало до ушей Сильвестра.
К вечеру молодой стрелец проявил беспокойство.
– Улизнет он от нас, дядя Кузьма. Заарканить бы…
– И заарканим. – Старый стрелец знал, кто такой Сильвестр, и побаивался его. Потому и не торопился «арканить». – Вот как вызнаем, куда путь держит: ежели пойдет на Антониево-Сийский – берем в хомут, а нет, так пусть идет с Богом на все четыре стороны.
Эти слова старого стрельца пришлись по душе Сильвестру. Выходило, что он не больно-то рьяно служил царю Борису.
Лесная дорога, наконец, выбежала на простор и пролегла через огромный луг, по которому изредка поднимались островки кустарника. Прямо перед собой, почти на окоеме, Сильвестр увидел конвой, сопровождающий князя Федора, которого гнали, Сильвестр теперь это знал, в Антониево-Сийский монастырь. И подумал ведун, что ему нет нужды следовать за конвоем до реки Сия, а разумнее вернуться в Москву. И когда миновали луг, и сумерки спустились на землю, и кустарник потянулся вдоль дороги, Сильвестр призвал на помощь благих духов и попросил их опустить на землю туманы, окутать ее. И они вняли голосу блаженного ведуна. Из кустарников на дорогу, словно молочная река, пополз густой белый туман. Он был такой плотный и так внезапно надвинулся, что Сильвестр вместе с конем растаяли в нем мгновенно. Но он не погнал коня вперед, а резко свернул в сторону и скрылся за купинами кустарников, замер. Цокот копыт на дороге остался.
Стрельцы в сей миг переполошились. И старый Кузьма крикнул:
– Удерет, шельмец! Слышишь, помчал?
– Слышу, дядька, слышу!
– Догнать! Схватить! Заарканить! – сполошно кричал Кузьма.
И ретивые стрельцы вслепую помчались неведомо куда.
Сильвестр дождался, когда утихнет стук копыт, повернул коня назад, выехал на луговину и там свернул вправо. Видел он, как ехал лугом, вдали селение на косогоре. Там Сильвестр и решил найти пристанище на ночь.
По летней поре конвой, сопровождающий Федора Романова, двигался медленно. В каждом селении, кои изредка попадались на пути, стражники на сутки останавливались, отдыхали сами и давали князю размять ноги. Его выпускали из возка, и он прогуливался час-другой под надзором стражей, а на ночь его вновь сажали на цепь. Князь страдал от унижения, но был терпелив и хранил молчание. К месту назначения конвой добрался лишь к празднику святой иконы Владимирской Божьей Матери. В этот день по дороге, ведущей в Антониево-Сийский монастырь, шли богомольцы. На берегу озера Михайлова они садились в большие лодки, и монахи доставляли их на Антониев остров. Там, в церкви Святой Троицы, звонили колокола, звали христиан на богослужение.
Когда конвой прибыл к монастырю, князь Федор выбрался из возка в угнетенном состоянии духа. Его не радовало торжество в честь Богородицы, он не замечал тихой прелести северной природы. Его, сильного и деятельного человека, дальний путь и бездействие довели до отупения. Он не поднимал глаз, не хотел обозреть красу первозданного края. А она здесь торжествовала всюду. Само озеро Михайлово окружали хвойно-березовые леса. Но белостволых красавиц было больше, и лес был светел, как храм в праздничный день.
Монастырь едва виднелся вдали. Высились крепостные стены и сторожевые башни по углам, за стенами поднимались две церкви, каменная и деревянная. Кто-то из стрельцов даже позавидовал князю Федору, проча ему благую жизнь в монастыре. Но Федор не питал надежды на это. Он знал, что ждет опального вельможу в монашеской среде. Князя посадили в большую лодку-завозню, за весла сели стрельцы, ими командовал десятский Матвей. Стрельцы гребли неумело, вразнобой ударяя веслами по воде, десятский на них зло ругался.
Крутая тоска подступила к самому горлу Федора, перехватила дыхание. Увидев вокруг себя зеленые воды, князь почувствовал боль в сердце. Злая воля разрывала его жизнь на две половины, на прошлое, которого у него уже нет, и на будущее, которое лежало во тьме. Все, что связывало его с Большой землей, с Москвой, с близкими, оставалось на удаляющемся берегу, а впереди – постриг в монашество, чужое имя, убогая келья – все, чему противилась его деятельная и общительная натура. И никто не мог открыть князю окно в завтрашний день, никто не мог сказать, сколько лет ему суждено провести в заточении. А то, что ему грозило заточение, а не обычная монашеская жизнь, он знал доподлинно. Стражи во главе с десятским, что были поставлены при нем, везли грамоту Разбойного приказа и повеление царя содержать осужденного князя Федора Романова в оскудении злобном, в каком должно пребывать татю. А царские повеления в монастырях блюлись строго. Так повелось издавна: когда государи преследовали кого и ссылали в монастыри, там им не было милости.
Так оно и было с князем Федором. Едва он сошел на берег, как стражи взяли его за руки, заломили их и при стечении многих богомольцев повели за монастырские стены. Там же десятский Матвей вручил игумену Арефу, который вышел встречать москвитян, грамоту. Ареф прочитал ее, печально посмотрел на князя и боярина Федора Романова, о роде которого знал многое, и молча направился в церковь. В церкви Ареф распорядился принести ножницы, монашескую сутану, клобук и другую одежду. Ножницы он вручил десятскому Матвею. И тот, мучимый совестью, со словами: «Ты уж меня прости, боярин», не поднимая на князя глаз, велел поставить его на колени. И тут Федор проявил непокорство, взбунтовался против насильственного пострижения. Легко оттолкнув от себя стрельцов, бросился бежать из храма, но во вратах храма наткнулся на других стрельцов и в грудь ему была наставлена сабля. Десятский со стрельцами подбежали к нему, схватили и после короткой схватки одолели, повели к амвону, и там Матвей, забыв о муках совести, набросился на Федора, занес ножницы.
Но в сей миг Ареф воскликнул:
– Остановись, воитель!
Матвей удивленно глянул на игумена:
– О чем скажешь? Обряд нарушаю?
– Нарушаешь, сын мой. Ему слово, – и Ареф показал на Федора. – Сын мой, тебе жить в обители, хочешь ли ты моей рукой постриг?
– Милостью прошу, – ответил Федор.
– Повторяй же, – повелел Ареф и начал читать обеты нестяжания, целомудрия и послушания.
Князь Федор все послушно повторил и подставил игумену голову. Ареф взял ножницы и отстриг с головы князя пук волос.
– Да нарекаешься отныне, сын мой, именем Филарета. Приемли и не взыщи.
После этого Федора переодели в монашеские одежды и повели из церкви в низкое деревянное строение, где располагались монашеские кельи. В конце длинных сеней перед Федором распахнули окованную полосами железа дубовую дверь, подтолкнули его в полутемное помещение и закрыли за ним двери, лишь звякнула дверная задвижка.
И Федор-Филарет оказался в келье, похожей на тюремную сидельницу.
В келье не было ни образа, ни лампады. И скудно: скамья, на ней – тюфяк из рядна, набитый мхом – и все убранство.
Федор-Филарет опустился на скамью, прибитую к стене, и застыл, словно мертвый. Да мертвый и есть. Потому как дух его был сломлен и растоптан сапогами годуновских стражей. И нет уже в миру Федора Никитича Романова, первого российского боярина, князя, племянника царицы Анастасии, первой жены Ивана Великого, а есть инок Филарет, человек неведомой впредь судьбы. Осознав всю горечь положения, смирившись с новым именем, Филарет долго сидел без дум и желаний, не ощущая слез, которые стекали на бороду. Прислонившись к стене, он впал в забытье. Сколько он пробыл во тьме, сие сокрыто, но когда пришел в себя, то увидел в келье двух старцев-иноков. Они принесли лампаду и образ архангела Михаила, хранителя душ православных христиан. Образ и лампаду они повесили в передний угол на кованые гвозди, зажгли фитилек лампады, помолились и молча ушли. Но вскоре вернулись, принесли кувшин с водой, ломоть ржаного хлеба, луковицу и соли в деревянной солонке. С Филаретом они так и не заговорили, но пока были в келье, он слышал их монотонное и неразборчивое бормотание молитвы. Исполнив свое дело, они покинули келью. И снова двери были заперты на задвижку.
Так начиналось заточение Филарета. В первые дни его выводили лишь по утрам на общую молитву и на хозяйственный двор, где позволяли колоть дрова. Все остальное время суток он проводил в келье, и долгое время его никто не тревожил, лишь раз в день ему приносили скудную пищу и воду все те же два молчаливых инока-старца. Да Филарет и не замечал, кто к нему приходил. Но он не замечал и главного, пожалуй, самого страшного – своего духовного опустошения. В келье он не молился Богу. Потому как забыл все молитвы, не осенял себя крестным знамением и не испытывал в этом нужды. Он даже пищу принимал с полным безразличием.
В эти первые дни и недели заточения Филарета произошли немалые перемены и в жизни Антониево-Сийской обители. Ее ворота были закрыты для богомольцев. И у ворот теперь вместе с монастырскими привратниками несли караул московские стрельцы с огненной зброей в руках. Монастырь стал тюрьмой, и всем монахам и даже игумену Арефу не разрешали разговаривать с иноком Филаретом.
Всего этого Филарет не знал. Но позже, когда постепенно успокоился, смирился с обстоятельствами жизни, увидел, в каком состоянии неприязни приходили к нему иноки-старцы, он понял, в какое оскудение быта он вверг своим появлением монастырскую братию. Монахи порицали Филарета. И лишь однажды один из иноков-старцев, посещавших его келью, страдающий за Филарета, несущего тяжкий крест опалы, нарушил запрет молчания, принес ему молитвослов и коротко сказал:
– Пробудись, брат мой, читай и моли Всевышнего о милосердии.
Потом Филарет скажет, что ежели бы не эти слова ободрения, изошел бы он тоскою и наложил на себя руки, потому как побуждение к тому приходило не раз.
В тот день перед сном Филарет впервые встал на колени пред образом Михаила-архангела и сперва как-то робко, будто впервые, а потом все усерднее стал молиться. И пробудилась память, он вспомнил каноны и молитвы, да больше те, с которыми в трудные минуты жизни обращался к Господу Богу. И первым каноном, коим откликнулась его душа на призыв инока-старца, был канон покаянный.
– О, горе мне грешному, – молился страстно Филарет. – Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне; даждь ми, Господи, слезы, да плачусия дел моих горько…
И пролились слезы облегчения, на душе стало светлеть, и, дабы сохранить проблески обновления, Филарет вознес к небесным Святым Духам канон покаяния Ангелу Хранителю:
– Все помышление мое и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякие мя напасти избави…
Наступила глубокая ночь, а Филарет все молился, и память его очистилась от замутнения, все молитвы, кои он выучил в отрочестве, открывались ему, как на страницах книги. И очищалась душа его от всякой бесовской скверны, от жестоких и безрассудных побуждений, от злобы и жажды выместить ненависть на преследующих его. И уже под утро, встав с колен на одеревеневшие ноги, он тут же упал на скамью и, прошептав: «Господи, спаси и сохрани», – уснул в сей же миг, и так крепко, как никогда не спал последние месяцы жизни.
И было в том благостном сне Филарету явление многоликое. Да первым сошел к нему архангел Михаил – хранитель и заступник. Поначалу Филарет засомневался: он ли? Но потом узнал его. Он увидел, что архангел препоясан и сабля на боку висела, потому как служил он у Всевышнего в архистратегах. И крылья виднелись у архангела за спиной. Все, как и положено иметь Святому Духу. Он же сказал Филарету:
– Зачем, сын Божий, забыл о своем заступнике? Сколько ден и ночей провел в келье, а только ноне преклонил колени и помолился пред образом моим.
– Прости и помилуй, заступник-хранитель, – взмолился Филарет. – Грешен и пребывал во власти бесов.
– Слушай теперь во благо спасения. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумлением твоим. Истинно любящий Бога презирает славу, богатство и все утехи мира считает за ничто. Проси Всевышнего быть всегда с тобой. И Он будет страдать с тобою вместе, и ты обретешь блаженство.
– Внемлю тебе, ангел-хранитель и архистратег Всевышнего. Но враг попирает меня и озлобляет и поучает всегда творить своя хотения. Но ты, наставник мой, не оставь меня погибающим, – умолял Филарет архангела Михаила.
– Аминь! – ответил Святой Дух и улетел, лишь шелест крыл отметил его полет.
Еще и пот с лица не успел смахнуть Филарет после беседы с архангелом Михаилом, как послышался тонкий, взывающий о помощи детский голосок. Филарет в сей же миг узнал своего Мишеньку, а тот кричал в ночи: «Батюшка, спаси, родимый!» Голос прозвучал близко, а тот кричал, будто бы на речке погибал. И Филарет ринулся спасать его. Ан не тут-то было, вырос пред ним десятский Матвей. «Не пущу! Не велено!» – зыкнул он. «Сынок там, сынок на погибель брошен!» – и ответ – нацеленный в грудь бердыш. Матвей был ловок и силен, прижал Филарета к стене древком бердыша, потребовал: «Деньги давай, а там иди!»
Филарет взялся искать по карманам деньги, а там одни камни. В сей миг голос Миши оборвался на полуслове: «Батюшка, спа…» И десятский Матвей развел руками, в голубых глазах даже слезы появились: «Я же говорил, деньги давай». Филарет сказал: «Вот возьми», – и раскрыл ладони, в которых держал камни. Там же по десять ефимиков лежало. «Эвона, благо какое! – воскликнул Матвей. – Спасу я твоего сына!» – и убежал.
Матвей показался Филарету лукавым бесом. Он опустился на колени перед свечой и зашептал: «Господи милостивый, зачем Тебе понадобился мой сынок? Верни его мне, милосердец. Я обездолен, лишен воли и семеюшки! Оставь мне сынка, Всемогущий». Да перестал стенать, потому как почувствовал, что на плече у него лежит чья-то рука. Посмотрел он влево – никого, вправо глянул – рядом ведунья Катерина сидит, такая же молодая, как много лет назад в лесу за Звенигородом. «Не печалуйся, князь любый. Сон тебе неверный пришел, – сказала ласково Катерина. И рукой провела по лицу Филарета. – Видишь сынка, он рядом с княжичем Иваном Черкасским сидит за трапезой». – «Вижу, вижу, Катенька! Дай Бог тебе здоровья. Да ты все тако же молода и красива, как в ту пору…» – «А я и есть из той поры. – И Катерина снова провела рукой по лицу Филарета. – Ты вот чему внимай, князь любый, приласкай Матвея. Денег ему пообещай и дашь, как тебе их пришлют тайно. Он же страдает от бедности и жалостивый». «А что сие даст, Катюша?» – спросил волнуясь Филарет. «От доброты своей солнце увидишь. И людей подобных себе найдешь, добротой одаренных. Душа в покой придет, как в храм дорогу обретешь, как руками к работе прикипишь». «Смогу ли я подняться?» – печально спросил Филарет. Катерина еще раз рукой провела по лицу Филарета. «Сможешь. Видишь дуб вековой, под коим я нарекла тебе будущее. Все и сбудется, как с верой и стойкостью по жизни пойдешь. Все через терпение придет». Филарет еще дубом любовался, себя и Катерину под ним видел. А она встала и тихо ушла, дверь скрипнула.
В тот же миг Филарет проснулся, со скамьи поднялся, за ручку двери ухватился. Она была крепко закрыта. И стало Филарету жутко от всего, что пришло ему во сне. Но по здравом размышлении он понял, что сон, пришедший в ночь на четверг, вещий и страшного в нем ничего нет, наоборот: уж коль явилась Катерина и все расставила по своим местам, то так тому и быть. К тому же Мишеньку, сыночка, показала и княжича Ивана – тоже. Как тут быть в сомнении и печали?
И Филарет встал на утреннюю молитву. Пока молился, за маленьким оконцем пробился рассвет и в силу пошел, ночи-то по северу в эту пору еще короткие. Филарет подумал, что в монастыре уже не спят, и постучал в дверь. Но никто не отозвался. Спустя немного еще раз постучал. К двери, похоже, подошел стрелец, спросил:
– Чего тебе?
– Слушай, родимый, позови десятского Матвея, Христом Богом прошу!
Стражник не ответил, но шаги его удалялись долго. Прошел, может быть, час или два, Филарет не знал времени, и вовсе неожиданно для него загремел засов, дверь распахнулась, на пороге возник Матвей.