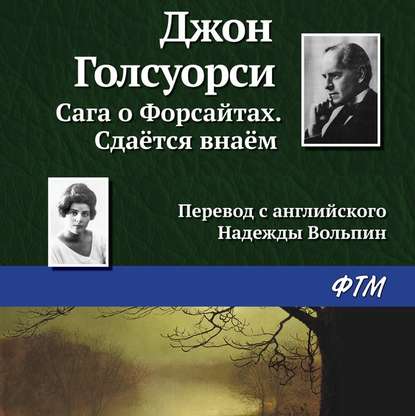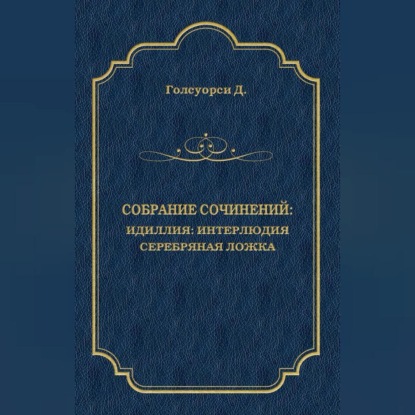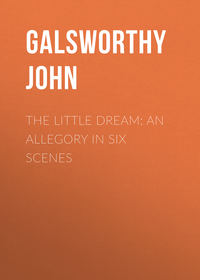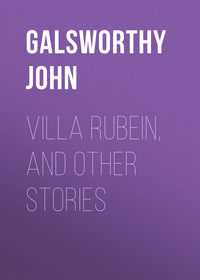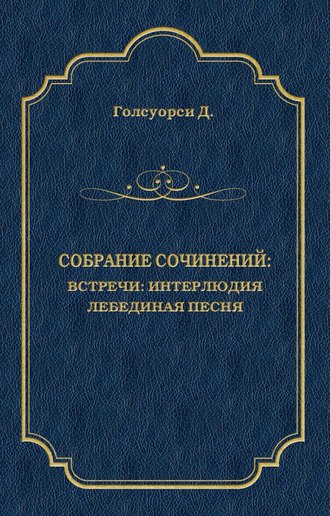
Полная версия
Собрание сочинений. Встречи: Интерлюдия. Лебединая песня
Теперь он устал смертельно; он прошел в спальню и, поспешно раздевшись, лег в постель. Он всем сердцем желал быть на пароходе под английским флагом. «Я стар, – подумал он вдруг, – стар». Слишком молода для него эта Америка, полная энергии, спешащая к непонятным ему целям. Вот восточные страны – другое дело. А ведь ему, в конце концов, только семьдесят лет. Отец его дожил до девяноста, старый Джолион – до восьмидесяти пяти, Тимоти – до ста, и так все старые Форсайты. Они-то в семьдесят лет не играли в гольф; а между тем были моложе, уж конечно моложе, чем он чувствовал себя сегодня. Вид этой женщины… Стар!
«Не стареть же я еду домой, – подумал он. – Если опять почувствую себя так, посоветуюсь с кем-нибудь». Существует какая-то обезьянья штука, которую впрыскивают. Это не для него. Обезьяны, скажите пожалуйста! Почему не свиньи, не тигры? Как-нибудь продержаться еще лет десять, пятнадцать. К тому времени выяснится, куда идет Англия. Провалится пресловутая система подоходного налога. Он будет знать, сколько сможет оставить Флер; увидит, как ее малыш подрастет и поступит в школу… только в какую? Итон? Нет, там учился молодой Джолион. Уинчестер, школа Монтов? Туда тоже нет, если только его послушаются. Можно в Хэрроу. Или в Молборо, где он сам учился. Может, он еще увидит Кита участником состязания в крикет. Еще пятнадцать лет, пока Кит сможет играть в крикет. Что же, есть чего ждать, есть для чего держаться. Если нет этого, чувствуешь себя стариком, а уж если почувствуешь себя стариком, то и будешь стариком и скоро настанет конец. Как сохранилась эта женщина! Она!.. У него еще есть картины – приняться за них посерьезнее. Ах, эта галерея Фриэра! Завещать их государству, и имя твое будет жить – подумаешь, утешение! Она! Она не умрет никогда!
Полоска света на стене у самой двери.
– Спишь, папа?
Значит, Флер не забыла зайти к нему!
– Ну, как ты, дорогой?
– Ничего, устал. Как опера?
– Так себе.
– Я просил разбудить нас в семь. Позавтракаем в поезде.
Она коснулась губами его лба. Если бы… если бы эта женщина… но никогда – ни разу, – никогда по собственной воле…
– Спокойной ночи, – сказал он. – Спи спокойно.
Полоска света на стене сузилась и исчезла. Ну, теперь ему захотелось спать. Но в этом доме – лица, лица! Прошлое… настоящее… у рояля… у его постели… проходит мимо, мимо, а там, за ними, большая женщина в одежде из бронзы, с закрытыми глазами, погруженная в вечное, глубокое, глу… И с постели раздался легкий храп.
«Современная комедия»
Лебединая песня
Из вещества того же, как и сон,Мы сотканы. И жизнь на сон похожа.И наша жизнь лишь сном окружена.Шекспир. БуряЧасть первая
I
Зарождение столовой
В современном обществе быстрая смена лиц и сенсаций создает своего рода провалы в памяти, и к весне 1926 года стычка между Флер Монт и Марджори Феррар была почти забыта. Флер, впрочем, и не поощряла мнемонических способностей общества, так как после своего кругосветного путешествия она заинтересовалась империей, а это так устарело, что таило в себе аромат и волнение новизны и в какой-то мере гарантировало от подозрений в личной заинтересованности.
В «биметаллической гостиной» сталкивались теперь жители колоний, американцы, студенты из Индии – люди, в которых никто не усмотрел бы «львов» и которых Флер находила «очень интересными», особенно индийских студентов, таких гибких и загадочных, что она никак не могла разобрать, она ли «использует» их или они ее.
Поняв, что фоггартизму уготовлен весьма тернистый путь, она уже давно подыскивала Майклу новую тему для выступления в парламенте, и теперь, вооруженная своим знанием Индии, где провела шесть недель, она полагала, что нашла ее. Пусть Майкл ратует за свободный въезд индийцев в Кению. Из разговоров с индийскими студентами она усвоила, что невозможно следовать по какому-либо пути, не зная, куда он ведет. Эти молодые люди были, правда, непонятны и непрактичны, скрытны и склонны к созерцанию, но, во всяком случае, они, очевидно, считали, что отдельные молекулы организма значат меньше, чем весь организм, что они сами значат меньше, чем Индия. Флер, казалось, натолкнулась на истинную веру – переживание для нее новое и увлекательное. Она сообщила об этом Майклу.
– Все это очень хорошо, – ответил он, – но наши индийские друзья во имя своей веры не провели четырех лет в окопах или в постоянном страхе, как бы не попасть туда. Иначе у них не было бы чувства, что все это так уж важно. И захотели бы, может быть, почувствовать, да нервы бы притупились. В этом-то и есть смысл войны для всех нас, европейцев, кто побывал на фронте.
– Вера от этого не менее интересна, – сухо сказала Флер.
– Знаешь ли, дорогая, проповедники громят нас за отсутствие убеждений, но можно ли сохранить веру в высшую силу, если она до того, черт возьми, взбалмошна, что миллионами гонит людей в мясорубку? Поверь мне, времена Виктории породили у огромного количества людей очень дешевую и легкую веру, и сейчас в точно таком же положении находятся наши друзья индийцы – их Индия с места не сдвинулась со времени восстания[8], да и тогда возмущение было только на поверхности. Так что не стоит, пожалуй, принимать их всерьез.
– Я и не принимаю. Но мне нравится, как они верят в свое служение Индии.
И на его улыбку Флер нахмурилась, прочтя его мысль, что она только обогащает свою коллекцию.
Ее свекор, в свое время серьезно занимавшийся Востоком, удивленно вскинул брови, узнав об этих новых знакомствах.
– Мой самый старый друг – судья в Индии, – сказал он ей первого мая. – Он провел там сорок лет. Через два года после отъезда он писал мне, что начинает разбираться в характере индийцев. Через десять лет он писал, что совсем в нем разобрался. Вчера я получил от него письмо – пишет, что после сорока лет он ничего о них не знает. А они столько же знают о нас. Восток и Запад – разное кровообращение.
– И за сорок лет кровообращение вашего друга не изменилось?
– Ни на йоту, – ответил сэр Лоренс, – для этого нужно сорок поколений. Налейте мне, дорогая, еще чашечку вашего восхитительного турецкого кофе. Что говорит Майкл о генеральной стачке?[9]
– Что правительство шагу не ступит, пока Совет тред-юнионов не возьмет назад свои требования.
– Вот видите ли! Если б не английское кровообращение, заварилась бы хорошая каша, как сказал бы Старый Форсайт.
– Майкл держит сторону горняков.
– Я тоже, моя милая. Горняки – милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. То же можно сказать и о шахтовладельцах. Уж эти мне вожди! Чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот: и грязь от него, и копоть, и до пожара недолго. Веселого мало. Ну, до свиданья! Поцелуйте Кита да передайте Майклу: пусть глядит в оба.
Именно это Майкл и старался делать. Когда вспыхнула «великая война», он, хотя по возрасту и мог уже пойти в армию, все же был слишком молод, чтобы уяснить себе, какой фатализм овладевает людьми с приближением критического момента. Теперь, перед «великой стачкой», он осознал это совершенно ясно, так же как и то огромное значение, которое человек придает «спасению лица». Он подметил, что обе стороны выразили готовность всячески пойти друг другу навстречу, но, разумеется, без взаимных уступок; что лозунги «Удлинить рабочий день, снизить заработную плату!» и «Ни минутой дольше, ни на шиллинг меньше!» любезно раскланивались и по мере приближения все больше отдалялись друг от друга. И теперь, едва скрывая нетерпение, свойственное его непоседливому характеру, Майкл следил, как осторожно нащупывали почву типичные трезвые британцы, которые одни только и могли уладить надвигающийся конфликт. Когда в тот памятный понедельник вдруг выяснилось, что спасать лицо приходится не только господам с лозунгами, но и самим типичным британцам, он понял, что все кончено; и, возвратившись в полночь из палаты общин, он взглянул на спящую жену.
Разбудить Флер и сказать ей, что правительство «доигралось», или не стоит? К чему тревожить ее сон? И так скоро узнает. Да она и не примет этого всерьез. Он прошел в ванную, постоял у окна, глядя вниз на темную площадь. Генеральная стачка чуть не экспромтом. Неплохое испытание для британского характера. Британский характер? Майкл уже давно подозревал, что внешние проявления его обманчивы; что члены парламента, театральные завсегдатаи, вертлявые дамочки в платьицах, туго обтягивающих вертлявые фигурки, апоплексические генералы, восседающие в креслах, капризные, избалованные поэты, пасторы-проповедники, плакаты и превыше всего печать – не такие уж типичные выразители настроения нации. Если не будут выходить газеты, представится наконец возможность увидеть и почувствовать британский характер; в течение всей войны газеты мешали этому, по крайней мере в Англии. В окопах, конечно, было не то: там сантименты и ненависть, реклама и лунный свет были табу; и с мрачным юмором британец «держался» – великолепный и без прикрас, в грязи и крови, вони и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. «Теперь, – думалось ему, – вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальнее окружающая картина, снова найдет себе богатую пищу». И, отвернувшись от окна, он разделся и пошел опять в спальню.
Флер не спала.
– Ну что, Майкл?
– Стачка объявлена.
– Какая тоска!
– Да, придется нам потрудиться.
– К чему же тогда было назначать комиссию и давать такую субсидию, если все равно не смогли этого избежать?
– Да ясно же, девочка, совершенно ни к чему.
– Почему они не могут прийти к соглашению?
– Потому что им нужно спасти лицо. Нет в мире побуждения сильнее.
– То есть как?
– Ну как же – из-за этого началась война; из-за этого теперь начинается стачка. Без этого уж наверно вся жизнь на земле прекратилась бы.
– Не говори глупостей.
Майкл поцеловал ее.
– Придется тебе чем-нибудь заняться, – сказала она сонно. – В палате не о чем будет говорить, пока это не кончится.
– Да, будем сидеть и глядеть друг на друга и время от времени изрекать слово «формула».
– Хорошо бы нам Муссолини.
– Ну нет. За таких потом расплачиваются. Вспомни Диаса[10] и Мексику, или Наполеона и Францию, и даже Кромвеля и Англию.
– А Карл Второй[11], по-моему, был славный, – пролепетала Флер в подушку.
Майкл не сразу уснул, растревоженный поцелуем, поспал немного, опять проснулся. Спасать лицо! Никто и шагу не ступит ради этого. Почти час он лежал, силясь найти путь всеобщего спасения, потом заснул. Он проснулся в семь часов с таким ощущением, точно потерял массу времени. Под маской тревоги за родину и шумных поисков «формулы» действовало столько личных чувств, мотивов и предрассудков! Как и перед войной, было налицо страстное желание унизить и опозорить противника; каждому хотелось спасти свое лицо за счет чужого.
Сейчас же после завтрака он вышел из дому. По Вестминстерскому мосту двигался поток машин и пешеходов: ни автобусов, ни трамваев не было, но катили грузовики, пустые и полные. Уже появились полисмены-добровольцы, и у всех был такой вид, точно они едут на пикник, все прятали свои чувства за каким-то вызывающим весельем. Майкл направился к Хайд-парку. За одну ночь успела возникнуть эта поразительная упорядоченная сутолока грузовиков, бидонов, палаток. Среди полной летаргии ума и воображения, которая и привела к национальному бедствию, какое яркое проявление административной энергии! «Говорят, мы плохие организаторы, – подумал Майкл. – Как бы не так! Только вот задним умом крепки».
Он пошел дальше, к одному из больших вокзалов. На площади были выставлены пикеты, но поезда уже ходили, обслуживаемые добровольцами. Он потолкался на вокзале, поговорил с ними. «Черт возьми, ведь их нужно будет кормить, – пришло ему в голову. – Столовую, что ли, устроить?» И он на всех парах пустился к дому. Флер еще не ушла.
– Хочешь помочь мне организовать на вокзале столовую для добровольцев? – Он прочел на ее лице вопрос: «А это выигрышный номер?» – и заторопился:
– Работать придется вовсю, и всех, кого можно, привлечь на помощь. Думаю, для начала можно бы мобилизовать Нору Кэрфью и ее «банду» из Бетнел-Грин. Но главное – твоя сметка и умение обращаться с мужчинами.
Флер улыбнулась.
– Хорошо, – сказала она.
Они сели в автомобиль – подарок Сомса к возвращению из кругосветного путешествия – и пустились в путь: заезжали по дороге за всякими людьми, снова завозили их куда-то. В Бетнел-Грин они завербовали Нору Кэрфью и ее «банду»; и когда Флер впервые встретилась с той, в ком она когда-то готова была заподозрить чуть не соперницу, Майкл заметил, как через пять минут она пришла к заключению, что Нора Кэрфью слишком «хорошая», а потому не опасна. Он оставил их на Саут-сквер за обсуждением кулинарных вопросов, а сам отправился подавлять неизбежное противодействие бюрократов-чиновников. Это было то же, что перерезать проволочные заграждения в темную ночь перед атакой. Он перерезал их немало и поехал в палату. Она гудела несформулированными «формулами» и являла собой самое невеселое место из всех, где он в тот день побывал. Все толковали о том, что «конституция в опасности». Унылое лицо правительства совсем вытянулось, и говорили, что ничего нельзя предпринять, пока оно не будет спасено. Фразы «свобода печати» и «перед дулом револьвера» повторялись назойливо до тошноты. В кулуарах он налетел на мистера Блайта, погруженного в мрачное раздумье по поводу временной кончины его нежно любимого еженедельника, и потащил его к себе перекусить. Флер оказалась дома, она тоже зашла поесть. По мнению мистера Блайта, чтобы выйти из положения, нужно было составить группу правильно мыслящих людей.
– Совершенно верно, Блайт, но кто мыслит правильно «на сегодняшний день»?
– Все упирается в фоггартизм, – сказал мистер Блайт.
– Ах, – сказала Флер, – когда только вы оба о нем забудете! Никому это не интересно. Все равно что навязывать нашим современникам образ жизни Франциска Ассизского[12].
– Дорогая миссис Монт, поверьте, что если бы Франциск Ассизский так относился к своему учению, никто теперь и не знал бы о его существовании.
– Ну а что, собственно, после него осталось? Все эти проповедники духовного совершенствования сохранили только музейную ценность. Возьмите Толстого или даже Христа.
– А Флер, пожалуй, права, Блайт.
– Богохульство, – сказал мистер Блайт.
– Я не уверен, Блайт. Последнее время я все смотрю на мостовые и пришел к заключению, что они-то и препятствуют успеху фоггартизма. Понаблюдайте за уличными ребятами, и вы поймете всю привлекательность мостовой. Пока у ребенка есть мостовая, он с нее никуда не уйдет. И не забудьте, мостовая – это великое культурное влияние. У нас больше мостовых, и на них воспитывается больше детей, чем в любой другой стране, и мы самая культурная нация в мире. Стачка докажет это. Будет так мало кровопролития и так много добродушия, как нигде в мире еще не было и не может быть. А все мостовые.
– Ренегат! – сказал мистер Блайт.
– Знаете, – сказал Майкл, – ведь фоггартизм, как и всякая религия, – это горькая истина, выраженная с предельной четкостью. Мы были слишком прямолинейны, Блайт. Кого мы обратили в свою веру?
– Никого, – сказал мистер Блайт. – Но если мы не можем убрать детей с мостовой, – значит, фоггартизму конец.
Майкла передернуло, а Флер поспешно сказала:
– Не может быть конца тому, у чего не было начала. Майкл, поедем со мной посмотреть кухню – она в отчаянном состоянии. Как поступают с черными тараканами, когда их много?
– Зовут морильщика – это такой волшебник, он играет на дудочке, а они дохнут.
В дверях помещения, отведенного под столовую, они встретили Рут Лафонтэн из «банды» Норы Кэрфью и вместе спустились в темную, с застоявшимися запахами кухню. Майкл чиркнул спичкой и нашел выключатель. О черт! Застигнутый ярким светом, черно-коричневый копошащийся рой покрывал пол, стены, столы. Охваченный отвращением, Майкл все же успел заметить три лица: гадливую гримаску Флер, раскрытый рот мистера Блайта, нервную улыбку черненькой Рут Лафонтэн. Флер вцепилась ему в рукав.
– Какая гадость!
Потревоженные тараканы скрылись в щелях и затихли; там и сям какой-нибудь таракан, большой, отставший от других, казалось, наблюдал за ними.
– Подумать только! – воскликнула Флер. – Все эти годы тут готовили пищу! Брр!
– А в общем, – сказала Рут Лафонтэн, дрожа и заикаясь, – к-клопы еще х-хуже.
Мистер Блайт усиленно сосал сигару. Флер прошептала:
– Что же делать, Майкл?
Она побледнела, вздрагивала, дышала часто и неровно; и Майкл уже думал: «Не годится, надо избавить ее от этого!» – а она вдруг схватила швабру и ринулась к стене, где сидел большущий таракан. Через минуту работа кипела: они орудовали щетками и тряпками, распахивали настежь окна и двери.
II
У телефона
Уинифрид Дарти не подали «Морнинг пост». Ей шел шестьдесят восьмой год, и она не слишком внимательно следила за ходом событий, которые привели к генеральной стачке: в газетах столько пишут, никогда не знаешь, чему верить; а теперь еще эти чиновники из тред-юнионов всюду суют свой нос – просто никакого терпения с ними нет. И в конце концов правительство всегда что-нибудь предпринимает. Тем не менее, следуя советам своего брата Сомса, она набила погреб углем, а шкафы – сухими продуктами и часов в десять утра на второй день забастовки спокойно сидела у телефона.
– Это ты, Имоджин? Вы с Джеком заедете за мной вечером?
– Нет, мама, Джек ведь записался в добровольцы. Ему с пяти часов дежурить. Да и театры, говорят, будут закрыты. Пойдем в другой раз. «Такую милашку» еще не скоро снимут.
– Ну хорошо, милая. Но какая канитель – эта стачка! Как мальчики?
– Совсем молодцом. Оба хотят быть полисменами. Я им сделала нашивки. Как ты думаешь, в детском отделе у Хэрриджа есть игрушечные дубинки?
– Будут, конечно, если так пойдет дальше. Я сегодня туда собираюсь, подам им эту мысль. Вот будет забавно, правда? Тебе хватает угля?
– О да! Джек говорит, не нужно делать запасов. Он так патриотично настроен.
– Ну, до свиданья, милая. Поцелуй от меня мальчиков.
Она только что начала обдумывать, с кем бы еще поговорить, как телефон зазвонил.
– Здесь живет мистер Вэл Дарти?
– Нет. А кто говорит?
– Моя фамилия Стэйнфорд. Я его старый приятель по университету. Не будете ли настолько любезны дать мне его адрес?
Стэйнфорд? Никаких ассоциаций.
– Говорит его мать. Моего сына нет в городе, но, вероятно, он скоро приедет. Передать ему что-нибудь?
– Да нет, благодарю вас. Мне нужно с ним повидаться. Я еще позвоню или попробую зайти. Благодарю вас.
Уинифрид положила трубку.
Стэйнфорд! Голос аристократический. Надо надеяться, что дело не в деньгах. Странно, как часто аристократизм связан с деньгами! Или, вернее, с отсутствием их. В прежние дни, еще на Парк-Лейн, она видела столько прелестных молодых людей, которые потом либо обанкротились, либо развелись. Эмили, ее мать, никогда не могла устоять перед аристократизмом. Так вошел в их дом Монти: у него были такие изумительные жилеты и всегда гардения в петлице, и он столько мог рассказать о светских скандалах – как же было не поддаться его обаянию? Ну да что там, теперь она об этом не жалеет. Без Монти не было бы у нее Вэла, и сыновей Имоджин, и Бенедикта (без пяти минут полковник!), хоть его она теперь никогда не видит, с тех пор как он поселился на Гернси и разводит огурцы, подальше от подоходного налога. Пусть говорят что угодно, но неверно, что наше время более передовое, чем девяностые годы и начало века, когда подоходный налог не превышал шиллинга, да и это считалось много! А теперь люди только и знают, что бегают и разговаривают, чтобы никто не заметил, что они не такие светские и передовые, как раньше.
Опять зазвонил телефон.
– Не отходите, вызывает Уонсдон.
– Алло! Это ты, мама?
– Ах, Вэл, вот приятно. Правда, нелепая забастовка?
– А, идиоты! Слушай, мы едем в Лондон.
– Да что ты, милый! А зачем? По-моему, вам будет гораздо спокойнее в деревне.
– Холли говорит, надо что-то делать. Знаешь, кто объявился вчера вечером? Ее братишка, Джон Форсайт. Жену и мать оставил в Париже; говорит, что пропустил войну, а это уж никак не может пропустить. Всю зиму путешествовал – Египет, Италия и все такое; по-видимому, с Америкой покончено. Говорит, что хочет на какую-нибудь грязную работу – будет кочегаром на паровозе. Сегодня к вечеру приедем в «Бристоль».
– О, но почему же не ко мне, милый, у меня всего много.
– Да видишь ли, тут Джон – думаю, что…
– Но он, кажется, симпатичный молодой человек?
– Дядя Сомс не у тебя сейчас?
– Нет, милый, он в Мейплдерхеме. Да, кстати, Вэл, тебе только что звонили, какой-то мистер Стэйнфорд.
– Стэйнфорд? Как, Обри Стэйнфорд? Я его с университета не видел.
– Сказал, что еще позвонит или зайдет, попробует застать тебя.
– А я с удовольствием повидаю Стэйнфорда. Так что же, мама, если ты можешь приютить нас… Только тогда уж и Джона. Они с Холли в большой дружбе после шести лет разлуки. Я думаю, его почти никогда не будет дома.
– Хорошо, милый, пожалуйста. Как Холли?
– Отлично.
– А лошади?
– Ничего. У меня есть шикарный двухлеток, только мало объезженный. Не хочу его пускать до Гудвудских скачек, тогда уж он должен взять.
– Вот чудесно-то будет! Ну, так я вас жду, мой мальчик. Но ты не будешь рисковать, с твоей-то ногой?
– Нет, может быть, возьмусь править автобусом. Да это ненадолго. Правительство во всеоружии. Дело, конечно, серьезное. Но теперь-то они попались!
– Как я рада! Хорошо будет, когда это кончится. Весь сезон испорчен. И дяде Сомсу новая забота.
Неясный звук, потом опять голос Вэла:
– Это Холли – говорит, что она тоже хочет что-нибудь делать. Ты, может, спросишь Монта? Он знает столько народу. Ну, до свидания, скоро увидимся!
Не успела Уинифрид положить трубку и встать с высокого стула красного дерева, как снова раздался звонок:
– Миссис Дарти? Уинифрид, ты? Это Сомс. Что я тебе говорил?
– Да, очень неприятно, милый. Но Вэл говорит, что это скоро кончится.
– А он откуда знает?
– Он всегда все знает.
– Все? Гм! Я еду к Флер.
– Но зачем, Сомс? Я бы думала…
– Я должен быть на месте, на случай осложнений. Да и автомобилю нечего стоять здесь без дела, пусть послужит. И Ригзу не мешает поработать добровольцем. Еще неизвестно, во что это выльется.
– О, ты думаешь…
– Думаю? Это не шутка. Вот что получается, когда начинают швыряться субсидиями.
– Но прошлым летом ты говорил мне…
– Ничего не могут предусмотреть. Ума как у кошки! Аннет хочет поехать к матери во Францию. Я ее не удерживаю. Нечего ей здесь делать в такое время. Сегодня отвезу ее в Дувр на автомобиле, а завтра приеду в город.
– Как думаешь, Сомс, стоит продавать что-нибудь?
– Ни в коем случае.
– У всех появилось столько дела. Вэл хочет править автобусом. Ах да, Сомс, знаешь, приехал Джон Форсайт. Мать и жену оставил в Париже, а сам будет кочегаром.
Глухое ворчание, потом:
– Зачем это ему нужно? Лучше бы не ездил в Англию.
– Д-да. Я думаю, Флер…
– Ты смотри, еще ей чего-нибудь не наговори.
– Да нет же, Сомс. Так я тебя увижу? До свидания.
Милый Сомс так всегда дрожит за Флер! Этот Джон Форсайт и она… да, конечно, но ведь когда это было! Детская любовь! И Уинифрид, улыбаясь, сидела неподвижно. А выходит, что стачка эта очень интересна, если только они не начнут бить стекла. С молоком, конечно, перебоев не будет, об этом правительство всегда заботится; а газеты – ну да ведь это роскошь! Хорошо, что приедет Вэл с Холли. Стачка – есть о чем поговорить. С самой войны не было ничего такого захватывающего. И, повинуясь смутной потребности тоже что-нибудь сделать, Уинифрид опять взялась за трубку.
– Дайте Вестминстер 0000… Это миссис Майкл Монт? Флер? Говорит тетя Уинифрид. Как поживаешь, милая?
Голос, раздавшийся в ответ, выговаривал слова быстро и четко, и это очень забавляло Уинифрид, которая сама в молодости особенно старалась растягивать слова, что помогало ей справляться и с ускоряющимся темпом жизни и с чувствами. Все молодые светские женщины говорили теперь, как Флер, словно считали прежний способ пользоваться английским языком слишком медлительным и скучным и пощипывали его, чтобы оживить.
– Очень хорошо, спасибо. Вы хотели меня о чем-нибудь попросить, тетя Уинифрид?
– Да, милая. Ко мне сегодня приедет Вэл с Холли, в связи с этой забастовкой. И Холли… я-то считаю, что это совершенно лишнее, но она хочет что-нибудь делать. Она думала, может быть, Майкл знает…
– О, работы, конечно, масса! Мы наладили столовую для железнодорожников; может, она захочет принять участие?