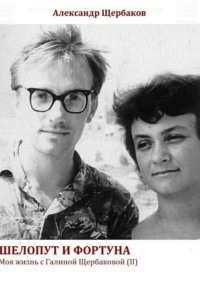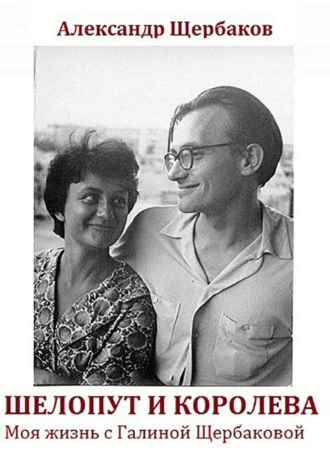 полная версия
полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой
На вопрос интервьюера, чем занимается дочь, Галина отвечала:
Радиожурналистикой, это ей пришлось по сердцу. В радиожурналистике, с которой я в своей жизни не сталкивалась и никогда для радио ничего не делала, теперь я понимаю, счастливо сочетаются несколько каких-то для нее симпатичных вещей. Это возможность музыкальных сопровождений, записи, театральные штучки – она училась в литературно-театральной школе. И это место, где в наибольшей степени реализуются какие-то ее потенции. Мне это все очень нравится, потому что ей это нравится.
Единственное, чего бы я сейчас для дочери хотела, – чтобы она была в меньшей степени политизирована. Мы с вами говорили о том, что сегодняшняя молодежь не такая, но про мою дочь это не скажешь. Она совершенно политизированный человечек, до такой степени, что это уже плохо. Она очень боится поворота в сторону, я этого поворота тоже боюсь. Ведь в России все варианты бывают только худшие. Я думаю, что если нам надо будет вырулить на какую-то вчерашнюю дорогу, то она все равно – тупиковая. Пройдет год-два, но потом в конце концов мы или выживем как народ, или нам не надо выживать. Когда я думаю об этих двух годах, я вполне допускаю кровавые варианты. …И моя дочь этого гораздо больше боится, чем я… Выходят тетки с кастрюлями на голове и говорят: «Давай генералиссимуса, он хорош, а все остальные плохи». Это та небольшая часть исстрадавшегося, измученного народа, в которую и камень бросать не хочется. Потому что это просто несчастные дурачки. А у моей Кати есть страх этого возвращения. Мне жалко этих старух с кастрюлями на голове, а Катя моя безумно боится… Я ей говорю: ты просто элементарно думай. Тебе 27 лет, а им 65, они просто умрут скорее. Она говорит: но я же не могу рассчитывать и ждать того, что вымрет какое-то поколение. Во-первых, это безнравственно, во-вторых, я не хочу, чтобы уходили все шестидесятилетние, потому что среди них очень много хороших. Она вела передачу с одной журналисткой, и та ей в прямом эфире сказала: она видит единственный выход улучшения жизни, когда умрут шестидесятники – те люди, которые идеализировали коммунизм, сейчас идеализируют демократов, которые с такой готовностью делают человеческое лицо монстру. Тогда мы делали человеческое лицо социализму, у которого лица не было – там была сплошная задница. Но мы на этой заднице рисовали глазки, носик, губки – мы делали человеческое лицо. И это желание сделать человеческое лицо в месте, где лица-то нет – это нам свойственно.
…Но людей других нет, нельзя выбрать другой народ. Мой сын выбрал другой народ, уехал лечить их там. Это хороший путь? Я не уверена. Я ведь никуда не уеду, и дочь никуда не уедет… И нам жить с этим народом, и нам его лечить по возможности, хворобы физические, нравственные. И ему самому надо лечиться.
…Сейчас моя дочь молодая, ей предстоит развиваться – а мне предстоит ей соответствовать. Я такая ненормальная мама, мне хочется соответствовать детям, у меня такой комплекс. Я еще и бабушка. А малышка со мной не считается, ей это совершенно все равно, она мои придумки в грош не ставит, считает, что придумывает лучше. Наверное, она права».
Весной 2002 года незадолго до дня рождения Галины у меня родилась идея: слепить к нему в качестве подарка нечто вроде видеофильма. Накопилось изрядное количество любительских сюжетов плюс полдюжины съемок для различных телевизионных программ. Я попросил сделать это нашу дочь. У них дома насчитывались два или три видеомагнитофона, так что была возможность какого-никакого монтажа. Она его осуществила, озаглавила работу титром «Команда молодости нашей», и 10 мая после праздничного семейного обеда в ресторанчике где-то в начале Пироговки мы пришли к Климовым на улицу Цюрупы, где нашу именинницу ждал сюрприз на видеоленте.
Я это вспоминаю потому, что вслед за титром «Команда молодости нашей» идет отрывок из того интервью, фрагменты которого приведены выше, то есть дочь его видела еще тогда. Это имеет значение, потому что, как я понял, в разоблачительном ее сочинении одним из главных смысловых узлов является как раз упрек в том, что Галина разрушила психологическую цельность детей своим двуличием: наставляя в доме их чему-то, требовала вне его не упоминать об этом. Дочь открывала своим читателям святую правду. Но умолчала, что мать за все это корила себя уже лет двадцать. А то и дольше. И Катя знала это. Для других деталь, наверное, не существенная, а для меня важная.
Еще за краткое время знакомства с сочинением дочери я заметил, что она обвиняет Галину в черствости, проявленной в отношении к ее маме, Валентине Федоровне: последний день в ее жизни та провела в суетных хлопотах о публикации в «Юности» повести «Вам и не снилось». И опять, казалось бы, истина. Но ведь и она публично раскрыта не раз и не два очень задолго до суровой разоблачительницы самой писательницей и в журналистике, и в книгах.
«На обратной дороге мы заезжаем к моей болеющей маме. Она машет мне телеграммой, где мне предлагают срочно поменять название повести… Присев рядом с мамой, я опять и снова пишу на коленках десять или двадцать названий и бегу на почту звонить в редакцию. На маминой кровати лежат два журнала – «Дон» и «Знамя», в них – единственные мои публикации. Она тут же начинает волноваться за меня, а я весь этот крошечный остаток дня трачу на то, что пишу и пишу названия.
На следующий день я продолжаю быть полусумасшедшей, не зная главного, что этот день – последний день жизни моей мамы. Утром я слышу ее неожиданно молодой голос, отдающий отчиму распоряжения, чем нас кормить. И этот голос мамы – привычный, без прерывающегося дыхания, а совсем молодой, почти юный, сбивает меня с толку. И вместо того, чтобы провести этот день из минуты в минуту с ней, не расставаясь, а вдыхать ее запах, и слушать, и слушать все ее слова, и вникать в них, постигать их окончательность, я, как идиотка, снова бегу на почту с новым списком названий… Весь день, последний мамин день, я обсуждаю эту дурь – название повести.
– Да неплохо, доченька, – говорит она мне. – Совсем неплохо.
А я спорю. Я смею спорить! Я слепа. Я глуха. Я не вижу. Я не чувствую».
И вовсе стыдным представлен нашей дочерью в интернете материнский поступок Галины: та позволила ей, Екатерине, до достижения совершеннолетия сойтись с возлюбленным юношей.
Это может показаться смешным, но и тут та же история. В 2005 году Галина писала: «У меня уже больше двадцати лет лежит на антресолях мешок с письмами. Это отклики на «Вам и не снилось». Признаюсь, многие из них не читаны, ибо в них всего две темы. Одна: первую любовь детей надо холить и нежить. Вторая: правильно делают те родители, которые сметают ее с порога как только могут (и осторожно так намекают, что от любви у малолеток рождаются дети, а это – ужас, ужас, ужас).
Так вот, двадцать с лишним лет тому я была с первыми». Потому как «еще в нашей стране не кричали о сексуальной революции, еще не разучились смущаться. Любовь еще была нежна и прекрасна, как трепетная лань».
Но все это было, повторю, двадцать лет назад от 2005 года!
Впрочем еще и тогда, в 1985-м… «Я сама тысячу раз попадала в ситуацию безнадежности перед миром собственных детей.
Мы проигрываем в своей жизни все ситуации дважды: вначале, как дети, потом, как родители. И в этих двух своих ролях мы бываем не то что не похожи, мы бываем противоположны. Противоположны самим себе. Тем, которыми нам надлежало бы быть. Ведь должен же быть, жить в нас тот истинный «я», от которого мы порой уходим далеко-далеко, запутавшись в противоречиях, сомнениях, руководствуясь не стремлением быть самим собой, а вымороченной идеей соответствовать то ли занимаемому месту, то ли родительскому назначению, то ли еще чему». То есть да, представления и понятия писательницы перестраивались вместе с жизнью – собственной, страны и мира, и она поступала в соответствии с ними.
Я не хочу ни в чем упрекать приверженцев когда-то усвоенных и до самой смерти хранимых в неприкасаемости канонов существования (к ним, мне показалось, и стала принадлежать наша взрослая Катя), но, Бог мой, как я восхищаюсь природной, глубинной изменчивостью моей пожизненной избранницы. Ее внутренний мир, неизменно обновлявшийся, был подобен стремительно растущему котенку, или пушкинскому князю Гвидону. Его натиск с необычайной силой вытолкнул ее на писательскую стезю: «Вышиб дно и вышел вон».
С какого-то момента с нее не хотелось спускать глаз, чтобы не пропустить что-то новое. «В свои молодые годы я была достаточно категоричной, была из породы тех противных людей, которые считают, что знают что и знают как». И она же через некоторое время: «Если ты сам не можешь разобраться в своей душе, не лезь в другую». Досада на себя, что поздно начала писательство, породила стремление работать как можно больше и быстрее. Однако и это казалось бы бесспорное требование к себе по трезвому размышлению перерастает в свою противоположность: «А жить надо медленно». Или вот. «Идеалистами держится мир». Но – «Поступайтесь принципами, ребята, поступайтесь. Другого пути человеческого развития, пути стать лучше нету». И это, и многое парадоксальное другое всегда говорилось из сиюминутных побуждений ее переливчатого, аритмичного, как ее сердцебиение, артистического душевного мира. За пятьдесят лет – ни мгновения скуки!
III
…Вот что не раз говорили близкие люди не только Галине, но и мне: вы неправильно воспитывали свою дочь. Я не спорил с этим утверждением. Но и не был согласен с ним. В моем представлении нормальные в умственном отношении люди никого не воспитывают, а просто живут.
В связи с этими размышлениями я вспомнил любопытное наблюдение над природой человеческих типов. Не мое, а Ролана Быкова, редкостно внимательного ко всему живущему.
Было так. Кто-то в редакции (в «Комсомолке», едва ли не Валерий Аграновский) сказал мне:
– Старик, это твоя тема. Школьная училка невзлюбила одного мальчишку и доводит его едва ли не до самоубийства.
«Мальчишкой» оказался Олег, приемный сын Ролана Быкова. Я приехал к режиссеру на «Мосфильм». Там было до удивления безлюдно. Я открыл дверь с надписью «Внимание, черепаха!». Быков ждал меня. Но почему-то не спешил переходить к теме разговора, намеченного вчера по телефону.
– Так что у вас случилось? – спросил я.
– А, одна шкрабская лахудра прицепилась к моему парню… Слушай, давай я покажу тебе мое новое кино… Скажешь свое мнение…
И мы вдвоем в крохотном зальце смотрели еще не вышедший фильм «Внимание, черепаха!». После чего уже я забыл, зачем пришел. И только собираясь уходить, спохватился:
– А что же будем делать с лахудрой?
– Да лучше их не трогать. Хуже будет, загнобят
После этого я Ролана Быкова не видел. Но слышал много. Я регулярно звонил ему по телефону, подбивая его написать что-то «на детскую тему» (сначала для «Комсомолки», потом для «Журналиста», потом для «Огонька»). Он часто отвечал, что, конечно, напишет, иногда – что абсолютно нет времени. Но всегда разговор заканчивался его монологом-вариацией по вопросу нашего всеобщего непонимания детей и детства как такового. Порой Ролан Антонович вступал в разговор безучастно, говорил, что он устал, но как только я называл тему предполагаемого выступления, быстро заводился и начинал фонтанировать очень незаемными идеями. Я раза два предложил ему все это говорить под магнитофон, но он был категорически против: «Все напишу сам».
Так к чему это я?..
После фильма «Внимание, черепаха!» – сеанса для двоих – Быков в числе прочего сказал, как он не любит советское детское кино. Прежде всего, из-за того, что там все персонажи-дети в личностном плане на одно лицо. «А присмотрись к ним: вот этот точно буквоед, а вот та – уже в пять лет видно, что шлюха. Все извечно заложено и известно».
Мы любим детей за все, в том числе и за тотальную милоту, кого бы из взрослых они ни напоминали. И через нее очень трудно разглядеть то, о чем говорил Быков. Однако когда уже это имеешь в виду… Может быть, наша дочь «играет роль» в своей жизни не столько в пресловутых предложенных обстоятельствах, сколько в рамках самой ее природы (генетической)?
И однажды в этих моих размышлениях на одном плане сознания нежданно сошлись два человека – в разное время и по-разному любимых мной. Они не просто оказались похожими, а как бы вошли друг в друга – по сходству известных мне поступков.
…Как сейчас помню застывшее лицо моей мамы, когда я спросил у нее о чем-то про ее младшую сестру Регину. «Не надо о ней», – сказала она. И все. Самая последняя в большущей уральской семье, всеобщая любимица, незадолго до этого не приехала на похороны матери, Александры Васильевны.
Говорили тогда, что они из-за чего-то повздорили. Но я в тот приезд, обходя многочисленную родню, не мог выяснить ничего. Как, впрочем, и позднее. Никто не хотел не то что говорить о Регине, но и упоминать ее имя. Я понял: все прижизненные обстоятельства были обесценены. Имело значение одно: она не хоронила свою маму.
Мне было жалко Регину. Мне были дороги наши голодные и холодные детские приключения, когда старшие ковали великую победу. Как-то я сказал об этом маме. И… больше такого себе не позволял. Она не хоронила свою маму. И все.
Через сколько-то лет после того, как не стало уже моей мамы, я листал в доме родителей семейные альбомы. И не нашел ни одной фотокарточки, где была бы Регина.
В какой-то мере я осознал резон этого отношения, когда не стало Гали. В глубине души я надеялся, что волей-неволей пришедшая на могилу дочь перед ликом смерти забудет распри. Конечно, я был жертвой не самой первосортной литературы: не раз читал о такого рода преображениях. Но уж очень хотелось верить…
Дочь не пришла, не приехала на могилу матери. Были близкие люди из Ростова, из Израиля… Не было Кати.
И когда тождество ситуации свело в памяти нашу дочь и Регину, я узнал одну в другой.
Мы долго жили с Региной в одном городе, в Москве. Но только дважды виделись – на похоронах общих родственников. Меня тянули к ней воспоминания детства, и отталкивало – ее взрослое «колючее» состояние. Вот что было, едва мы приехали в столицу. Меня разыскала моя бывшая одноклассница. В своем письме она сообщала, что предстоит юбилей нашей «красной» школы. Я с энтузиазмом и восторженностью провинциала бросился звонить Регине:
– Ты пришлешь им телеграмму?
– С какой стати? – я опешил. – Что мне дала эта школа? Одно расстройство. Ненавижу…
Вот это «ненавижу» стало для меня на долгие годы знаком неблагодарности и сволочизма. Регина была не только любимицей родни. Прелестное белокурое создание было баловнем школы, девочкой, известной в городе. Я был горд тем, что она приходила за мной в детский сад. Я помню, как в ее не сильный, но очень точный голосок вслушивался зал на олимпиаде самодеятельности: «Чуть горит зари полоска узкая, золотая тихая струя…» А кто мог быть волшебной феей и творить чудеса в детском городском театре? Только царственная Регина. А как по ней, уже выпускнице, сходил с ума красавец Федя Феодосиади (то ли двоюродный брат, то ли дядя Коли Тамбулова)… Нет, не мог я принять ее «столичное» пренебрежение к нашему пусть и третьестепенному Красноуральску, нашей «красной» школе.
И надо же! Словечко «ненавижу» стало с подросткового возраста излюбленным в лексиконе нашей дочери. У меня при нем «шкура вставала дыбом» (выражение Галины), я, как мог, протестовал против него. Но мог я мало что.
Галя, видимо, была интуитивно права в своей больничной «ламентации» о «мужчине как источнике незащиты». «В полях под снегом и дождем» она всегда могла рассчитывать, что он (то есть я) не задумываясь укрыл бы ее «плащом от зимних вьюг, от зимних вьюг». Но никогда сам не чувствовал себя подлинно стеной, хотя стремился быть или хотя бы выглядеть ею. Находясь в пространстве, где свет и тепло, где мои дорогие люди, мой встревоженный внутренний слух то и дело улавливал злой посвист каких-то снежных зарядов, готовых опрокинуть преграду – между холодом и теплом (помните Тагора? «Эта любовь вносит тепло в семью»). Преграду, которую, по ощущению, надо было постоянно придерживать, как в судне с пробоиной, собою.
Я благодарен небу за то, что в моменты, когда казалось, вихри враждебные вот-вот прорвутся, каждый раз появлялся один – а больше и не нужно! – шанс удержать территорию тепла. Под ее покровом было не только наше существование на сей час, но и первые поцелуи на челябинском морозе, и полдень нашего ростовского семейного счастья с рождением дочери, и благополучный финиш казавшегося нескончаемым московского марафона…
И… волгоградская трехлетка, в которой лично для меня главным были три первых года жизни дочери Кати. Нашего Сашку, самого мирового парня на моем веку, я узнал, когда он был уже Хокой, почти двухгодовалым. Дочь же была единственным опытом моего наблюдения человека практически с нулевой (по возрасту) отметки.
Однако самовластье памяти сильней диктата хронологии. В душу часто западают не первоначальные события и даже не самые значимые случаи, а так, попутные обстоятельства, при которых по непонятной причине замирало сердце и которые на нем остались то ли следами неуходящей печали по неповторимости чувства, то ли мгновениями счастья.
Посему – сначала московские эпизоды.
Мне казалось, чем раньше приобщать ребенка к искусству, тем лучше. Первое, что было нам доступно в столице, – театр. И мы начали осваивать все московские сцены, где были детские спектакли. Катя их воспринимала с охотой. Трудность была одна, транспортная. Дочь наша страдала от укачивания. Поначалу она всегда с любопытством смотрела в троллейбусное окно, но через какое-то время ее часто начинала мучить тошнота. Она утыкалась в меня или вообще ложилась на мои колени.
Я шептал ей на ухо что-то успокоительное, потом начинал уговаривать тошнилки не высовываться, уйти, спрятаться. И помогало. Но не всегда. Тогда мы выбирались из транспорта и какое-то время двигались пешком.
Именно эта картинка – Катя, склонившаяся на мои колени и я, шепотом заговаривавший ее невзгоду, – раньше всего встает в моем ощущении ее детства. И, странно, по сию пору воспринимается как знак счастья.
Потихоньку ее морская болезнь стала уходить, и мы уже в основном без приключений добирались до театров. Любопытная деталь: с какого-то момента мы каждый год попадали на тот или иной спектакль в Международный день театра. Ничего загадочного тут нет: этот день приходится на весенние каникулы школьников. А я загодя составлял их «культурную программу». Помню, как-то спросил дочь: «В ЦДТ (Центральный детский театр) опять будет «Двенадцатая ночь». Пойдем?» «Конечно!» – ответила Катя. Год назад в День театра мы смотрели этот яркий, праздничный спектакль. В большой мере его таковым сделала впервые увиденная нами Ирина Муравьева своей искрящейся, увлеченной, так и хочется сказать – какой-то первозданной игрой. Посмотрели еще раз. И снова была Ирина Муравьева, и опять был Международный день театра… Помнится, с этого спектакля ЦДТ стал нашим любимым театром.
В многотрудной жизни Винни Пуха была досада в лице неправильных пчел. А я сам в моей жизни был неправильным журналистом. Большинство моих коллег одной из главных отрад профессии считали возможность «помотаться по свету». Нередко слышал такое: «Работа хорошая, да только вот командировок мало».
Я не припомню случая в профессиональной биографии, чтобы я отлынивал от какой-либо редакционной работы или задания. Но все без исключения отъезды из дома, а их по необходимости было немало, воспринимались мною как мини-драмы типа «С любимыми не расставайтесь». Никому об этом я не говорил, но даже отправляясь во вполне «отдыхательную» командировку, начиная с первых ее часов, считал дни, оставшиеся до возвращения. Домашнее животное.
Но самым маетным в этом отношении был срок от последнего дня ноября 1967 года, когда Панкин выдернул меня в столицу, до 1 июля 68-го, когда я приехал забирать своих домочадцев. Все эти месяцы меня преследовал дебильный страх: не дай бог, я попаду под машину, и что будет с Катькой? Я не раз за это время прилетал домой на день-два, но снова прибыв в Москву, в гостиницу «Юность», по вечерам изводился этим выдуманным горем. Почему паническая мысль не преследовала меня ни в Волгограде, ни позднее в Москве? Она вообще никак не была связана с объективной реальностью дорожных происшествий.
…А вот кто был «правильным» журналистом, так это Юрий Визбор. Да, он был одним из самых популярных бардов, талантливым актером, но и классным репортером, привозившим из командировок, которые, можно предположить, вносили в его жизнь светлые тона, отличные песенные репортажи. Я до сих пор, с шестидесятых годов, помню некоторые из них.
…На плато Расвумчорр не приходит весна,
На плато Расвумчорр все снега да снега,
Все зима да зима, все ветров кутерьма,
Восемнадцать ребят, три недели пурга.
…Пошел на взлет наш самолет,
Мелькнул огромной рыбьей тенью.
Убрал шасси второй пилот.
Звезда качнулась над антенной.
…Оставь свою печаль до будущей весны,
Ты видишь, улетают самолеты.
Гремит ночной полет по просекам лесным,
Ночной полет – не время для полета.
Запомнились эти баллады, потому что не раз слушались. В те годы возник необычный журнал, в состав которого входили гибкие граммофонные пластинки. Он пользовался необыкновенным успехом. Я, чтобы его достать, применял все возможное и невозможное. Когда мои усилия оказывались бесплодными, шел в Ростовский обком партии к Аркадию Агафонову, бывшему заместителю редактора «Комсомольца», переквалифицировавшемуся в сословие начальников жизни. Обком мог все. Даже явить «Кругозор».
Чуть ли не в каждом номере этого журнала на пластинках были бардовские «отчеты» Визбора о его очередных странствиях по СССР. Мне особенно нравился последний куплет из процитированной чуть выше песни.
Таятся в облаках неспелые дожди,
И рано подводить еще итоги:
У этих облаков метели впереди,
Да и у нас – дороги да дороги.
Вспомнились же пластинки из «Кругозора», а в связи с ними и сам Юрий Визбор, потому что их горячей поклонницей оказалась наша Катя. Она их, видимо, где-то в возрасте от одного до трех не раз вместе с нами слушала, более того, каким-то образом некоторые из них заприметила и приходила ко мне или Галине, держа свернутый в трубку синенький пластиковый квадрат. И торжествующе объявляла, например, такое: «Ната си наколь тунатэ!»
Тогда, в году 66-м, в советском радио– и телеэфире появились две симпатичные японские песенки: «У моря, у синего моря» и «Тебе не забыть обо мне». И ту и другую «Кругозор» запечатлел на своих звуковых страницах. Нашей дочери особенно нравилась вторая. Причем, не в русском варианте, представленном Эльмирой Уразбаевой, а, так сказать, «в природном». Поэтому композиция у нас проходила, по первой фразе «по-японски», услышанной Катей, как «Ната си наколь тунатэ». Мы ставили ее на проигрыватель, и девчонка увлеченно, на манер сегодняшнего караоке, распевала что-то, что должно было соответствовать переводу: «Тебе не забыть обо мне, я сниться умею во сне». В творческом экстазе она порой даже покрывалась испариной…
Забавляя дочку, я ей частенько напевал модную попсу из репертуара Эмиля Горобца – «Катарина, охо-хо». Имелось в виду, что она благодаря этому будет лучше усваивать свое полное имя. Но у нее был собственный взгляд на развлекательную эстраду, почерпнутый все из того же «Кругозора». То и дело в доме раздавалась громогласная, произносимая нараспев «с выражением», не всякому понятная мольба: «Не губи земного дара!» Видимо, этой фразой Кате особенно пришлась по душе песня в исполнении Вадима Мулермана:
Над рекою бродит парень,
Ах, парень, ах, парень,
Он играет на гитаре,
Гитаре, гитаре.
И гитара эта плачет,
-Это что ж такое значит?
Это значит, что у парня
Музыкальная душа.
Не губи земного дара,
Пой, гитара, плачь, гитара!
Разве плохо, что у парня
Музыкальная душа?..
Мне казалось, у нашей дочери тоже музыкальная душа, меня это радовало. Как и ее озорные словесные выкрутасы. К примеру. Она узнала слово «гадость» и стала прилагать его ко всем известным ей понятиям. Когда ей сказали, что этого не надо делать, она придумала хитрость. Глядя на игрушку, начинала говорить:
– Зайка – га…
Выждав паузу и хитро улыбаясь в нашу сторону, заключала предложение:
– …мкость!
Запомнив маленькое стихотворение, заканчивавшееся строчкой «Ай да мишка!», она много раз с удовольствием декламировала его, каждый раз завершая своей юмористической придумкой: «Ай да гиля!»; «Ай да сибка» и т. д.