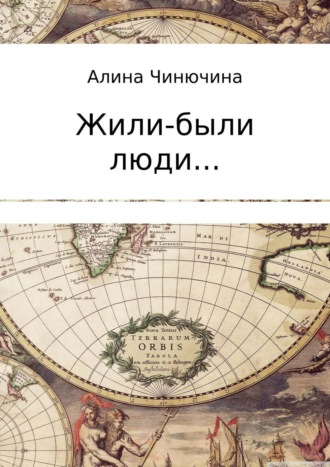 полная версия
полная версияЖили-были люди… Сборник
В общем, как уж получилось, что сын Марьи в тот день за ворота вышел, никто не понял. Не то ворота у них оказались не закрыты, не то что, а Марья не уследила, как мальчишка выскочил. В доме была, ужин она, что ли, готовила. На улице, понятное дело, стайка пацанов крутилась: каникулы, и хоть и запрягали их помогать по хозяйству матери, все не на целый день. Дело шло к вечеру, ребятни с окрестных домов уже понабралось.
Конечно, местные ребятишки знали, кто такой этот белобрысый тощий пацан, видели его не раз. Но вот так, одного, без матери и отца встретили впервые. Обступили, загомонили. А тот малой еще, глупый, не понял, что не с добром его встречают. Да и так разобраться, с чего бы ему про взрослые дела знать? Сначала просто рассматривали – как же, немец, интересно. И главное, пацаны-то все – дурачье, старше десяти нет ни одного; был бы с ними кто постарше да поумнее, обошлось бы дело. Что уж там он сказал им или сделал, никто потом разобраться не смог, мальчишки один на другого вину валили, и все кончилось вечным «А че он? А мы ниче совсем не делали!». Словом, кинулись они на него.
Когда Марья выскочила на улицу, привлеченная шумом, голосами и таким знакомым ревом, ее Ванька со всех ног удирал от мальчишек к своим воротам. А они орали вслед что-то про немецкого выкормыша и кидались комьями сухой, спекшейся, твердой, как железо, грязи. Увидев выбежавшую Марью, и в ее адрес прокричали про немецкую подстилку. Ванька – глаз заплыл, на щеке царапина – с плачем добежал до матери, ткнулся в ее подол; обхватив сына руками, Марья почувствовала, как в ужасе вздрагивает все его маленькое тело.
Потом она говорила, что себя не помнила. Толкнув во двор сына, Марья разъяренной кошкой метнулась к мальчишкам, кого-то поймала за руку, кому-то шлепок отвесила, у кого-то выкрутила ухо…
…Торчавшие у окон соседки выбежали на улицу.
…Они кричали Марье в лицо грязные, площадные ругательства и бросали в нее те же самые комья, которые только что летели в спину ее сыну. Они хлестали ее по плечам, по спине снятыми платками, вырванными из заборов кольями, вцепились в волосы, рвали косу. Всю свою горькую жизнь, вдовью долю и обиду на эту долю вымещали на ней, на той, с которой вместе росли и делились секретами; которую утешали в черные дни после похоронки; которая пела про соловушку для их мужей; которая предала их своим счастьем, отгородилась от них своей любовью, забыла мужа, заслонившего их грудью; которая отдалась врагу и родила ему сына. Она не могла быть счастливой, не имела на это права, потому что счастье ее было – с врагом. И пусть Иван, погибший за нее, уже ничего не мог ей сказать – за него сказали эти бабы. А уж что именно он бы ей сказал – ударил бы ее или простил, им было неважно. Им вообще все было неважно.
…Заходился ревом, лежа в воротах своего дома, маленький белобрысый мальчик. Его мать, растрепанная, простоволосая, бежала по улице, закрывая голову руками, прячась от ударов соседок.
Выскочил из переулка возвращавшийся с работы Иоганн, издалека увидевший все. Растолкал обезумевших баб, вырвал из их рук Марью, закрыл собой. Не обращая внимания на удары, подхватил ее на руки, побежал к дому.
Тяжело дышащие, растрепанные, расхристанные женщины опустили сжатые кулаки. Видели, как у ворот он поставил на землю Марью, подхватил свободной рукой сына, скрылся во дворе. Лязгнули, закрываясь, ворота.
Душное небо над головой медленно темнело, наливаясь грозовой темнотой.
Они уехали через два дня. Все это время Марья не показывалась ни на улице, ни во дворе. Иоганн только однажды вышел, вернулся через несколько часов. Ранним воскресным утром он крест-накрест забил досками ставни дома, запер дверь. Марья, похудевшая, бледная, с заметными синяками на лице, снова замотавшая волосы черным платком, несла на руках сына – мальчишка испуганно прижимался к ее плечу. Иоганн нес на плече большой сундук, за спиной висел вещмешок – вот и все имущество.
Отойдя от калитки на несколько шагов, Марья остановилась. Повернулась к воротам, сделала несколько шагов обратно. И низко, до земли поклонилась дому – большому, прочному, построенному для счастливой жизни нескольких семей дому, из которого так нелепо и страшно ушли за какие-то несколько лет все его обитатели.
Прильнув к окнам, заборам, прячась за калитками, смотрели на это люди. Сухими глазами смотрели, провожали Марию со сжатыми губами, в гробовом молчании. А про то, что баба Аня украдкой перекрестила Марию и ребенка, сноха ее Наталья потом никому не сказала.
…Несколько лет назад приехал на нашу улицу пожилой, представительный иностранец, очень спокойный и немногословный, отчужденный и нездешний в своем светлом дорогом костюме и тонких очках в золотой оправе. Он несколько раз прошел по улице из конца в конец, присматриваясь к домам, остановился возле водоколонки. Колонка та уже два года как бездействовала – на нашу окраину провели, наконец, водопровод и канализацию. Спросил что-то у старой, но на удивление крепкой Светланы Васильевны, дочки Нюрки Фирсовой, сидевшей у своих ворот на скамеечке. Та указала ему на дом Семеновых… точнее, на коттедж, стоящий на его месте. Сам дом сгорел через полгода после отъезда-побега Марии и Иоганна, и долго стояло пустым пепелище, долго историю эту помнили на улице, рассказывали вновь заселяющимся. Но потом поумирали старики, а их внукам и правнукам стало уже не так важно. Светлана Васильевна все это помнила смутно, больше знала от матери. Нюрка говорила, что Мария писала ей из Германии… два письма прислала и посылку – леденцы, ткань на платье и несколько коробок печенья, вкусно пахнущего, с нездешними надписями, хрустящего и рассыпчатого печенья. Но Нюрка ни разу ей не ответила, и Мария писать перестала.
Господин в очках сказал, что зовут его Иоганн. Говорил он на хорошем, относительно правильном русском, только с твердым немецким акцентом. Видно, хорошо жил в своей Германии – холеным выглядел, нестарым совсем, богатым. Лицо грубоватое, будто из дерева вырубленное. Постоял, посмотрел в окна дома, построенного десять лет назад совсем другими людьми. А уж видел ли он на его месте тот, прежний дом, вытащил ли хоть что-то из своей трехлетней детской памяти – Бог весть. Посмотрел, сел в машину и уехал.
Да и полно, в самом ли деле это был сын Марии, певшей про соловушку? Мало ли кого как звать могут, а паспорт господин не показывал. А узнать в нем черты немца Иоганна и вовсе было некому.
30.06.15.
Встреча
Обелиск стоял у реки, на самой высокой точке – так, что отовсюду были видны и солдат, опустивший меч, и санитарка, сжимающая сумку. Золотые буквы «Никто не забыт, ничто не забыто», выбитые на граните, цветы, цветы, цветы. Тишина.
Июньское небо плавилось от зноя, солнце лизало горячий камень. Анна осторожно положила гвоздики на черную плиту и коснулась пальцами гранитной руки.
«Ну, здравствуй, сыночек! Как ты тут без меня?
Я уже не плачу, сыночек, кончились мои слезы. А бабушка не смогла приехать… просила поклониться тебе. Возле дома вытянулась к небу та сосенка, что ты посадил, уходя. Только голос твой я стала забывать … а лицо – помню, каждую черточку помню».
Анна выпрямилась, поправила платок на голове. Оглянулась – и чуть отступила в сторону. Она была здесь не одна.
Невысокая белокурая женщина – примерно ровесница Анны – бережно опустила перевязанные лентой поздние тюльпаны к подножию памятника. Выпрямилась, что-то зашептала про себя – Анна увидела, как шевелятся ее губы.
Налетевший ветер рванул волосы и подол платья, вырвал из рук женщины бумажный клочок – тот отлетел к ногам Анны, лег на землю.
Они нагнулись одновременно – и встретились глазами.
– Danke, – сказала женщина негромко. И добавила неуверенно по-русски: – Спас'ибо.
– Не за что, – ответила Анна. Протянула женщине бумагу, мельком бросила взгляд – со старой фотографии смеялся худощавый, светловолосый юноша.
И – поняла…
Отступила на шаг.
– Вы немка?.. – спросила она, все еще не веря.
Да, – ответила женщина. И добавила зачем-то: – Меня зовут Ева. Ева Краузер.
Анна смотрела на нее, сжимая кулаки, и молчала. Седая прядь выбилась из-под платка.
– Я знаю, – проговорила Ева. – Вы ненавидите нас.
Анна разлепила губы.
– У меня был сын, – проговорила она глухо. – Он погиб здесь. В сорок втором. Ему было только восемнадцать. – И добавила с ненавистью: – Уходите!
– Мой сын тоже погиб здесь, – тихо ответила Ева. – Генрих. Я не знала, где его могила. Искала. Писала. И только три года назад узнала, что он погиб здесь. Я копила деньги, чтобы приехать сюда. Учила русский язык. Не знаю, где он похоронен. Но теперь буду думать, что он лежит здесь.
Синее, высокое небо молчало над их головами.
Ева наклонилась и тронула ладонью цветы.
– Он пошел добровольцем. Его не хотели брать, но он пошел. Ему было семнадцать. Я не смогла его отговорить.
Она повернулась и медленно пошла вдоль набережной. Светло-голубая косынка слетела с ее головы и осталась лежать на земле.
Анна стояла и смотрела ей вслед. Потом сделала шаг. Еще один. Еще.
– Подождите, – хрипло позвала она. – Подождите…
Наклонилась, подняла косынку. Медленно, очень медленно подошла к замершей женщине.
Осторожно коснулась руки Евы.
– Вы забыли платок, – сказала тихо.
Палило солнце. Молча смотрел на них гранитный солдат. На плече солдата беззаботно чирикал воробей.
8-9.05.2010.
Куда же еще
Светлой памяти моей бабушки
Гильмизямал Ахметзяновой
Перед рассветом задул холодный ветер. Анна долго лежала, открыв глаза, бессонно глядя в темноту. По окну стучали ветки яблони. По дому разносилось сонное дыхание детей, храп Федора, в подполе скреблась мышь. Анна нашарила в темноте будильник и, напрягая глаза, глянула на циферблат. Потом накинула на плечи платок и пошла умываться.
Выйдя во двор, поежилась. Сентябрь, однако. Дни жаркие, а ночи уже холодны. Скоро и печь топить. Возвращаясь в дом, подумала: надо идти сегодня к Вере. Куда еще тянуть-то…
Хлопоча над завтраком, Анна поминутно поглядывала на настенные часы, но легкие шаги зашлепали в доме раньше, чем минутная стрелка коснулась цифры «двенадцать». Катюша, умница, поднялась сама, не дожидаясь побудки, и, зевая, вышла к умывальнику. Анна с гордостью поглядывала на старшую дочь. В седьмой класс ведь пошла девка. Форму новую ей справили, галстук отгладили, еще ленту в косу вплести – красота будет. Худая, как щепка, глазастая – галчонок, зато учится лучше всех в классе.
Утро катилось – успевай поворачиваться. Скоро проснутся двухлетние Сашка и Пашка, успеть бы до этого времени обед приготовить. Федору, правда, во вторую сегодня, ему с утра не вставать; да и встал бы если – толку с него, вчера опять с мужиками чей-то отпуск отмечали. И храпел ночью на весь дом, как боров, и дух от него опять сивушный. Нет, зря на мужика Анна никогда не ругалась: он добрый у нее, и детей любит, и лишней копейки на себя не истратит, но если уж загудит… Верное средство одно – вынуть потихоньку получку из кармана; проспится – и опять человек. А если деньги не спрятать – все спустит. Слаб мужик на это дело. Хотя ей-то грех жаловаться – какой-никакой, а все ж хозяин в доме.
– Мам, – перебил ее мысли жующий кашу Гришка, – тебя Вер-Ванна в школу сегодня вызывала.
– Опять? – охнула Анна, возвращаясь снова на тесную кухню. – Вторую ведь неделю учитесь – что ж ты натворил, неслух?
– Да я… – опустил голову мальчишка, но Катя ехидно перебила его:
– В футбол вчера с пацанами гонял да стекло в учительской высадил.
– Ох, доберется до тебя отец, – пригрозила Анна.
Только на эту слабую угрозу и хватило ее сегодня. Не туда шли мысли, совсем не туда. Веру бы дома застать, вот что.
Проводив детей до ворот, Анна подхватила ведра и вышла к колонке. Ей повезло – Вера стояла там и задумчивым взглядом смотрела куда-то вдаль. Анна оглянулась невольно. Что она там увидела? Все то же рыжее от заводского дыма небо, все та же гора в конце улицы, куда поселковые ребятишки бегают летом за луком, все те же пыльные деревья в палисадниках. Вот разве что листья желтые в зелени берез – так ведь осень уже…
– Здорово, подруга, – первой поздоровалась Вера, переводя взгляд. – Ну, что надумала?
– Приду сегодня, – тихо сказала Анна, опуская ведра на землю.
Вера хмыкнула.
– Решила, значит. Ну, так давай, чего тянуть. Я нынче после полудня дома. Твой-то как?
Анна махнула рукой.
– Да все так же. Спит еще. Встанет – опять страдать будет. Ему во вторую сегодня.
– Ну да, – кивнула Вера. – Хорошо, что во вторую. В общем, приходи. К пяти жду. И простыни не забудь.
Анна кивнула, с силой нажимая на рычаг. Тугая струя вырвалась из трубы и звонко ударила в ведро, брызгами окатив женщину едва не до колен.
Анна кормила близняшек завтраком, когда стукнула щеколда калитки. Не отрываясь, Анна покосилась в окно, но на крыльце уже простучали быстрые шаги. Фатима, подружка, пожаловала. Ой, как некстати. Про юбку-то ее Анна совсем забыла.
– Привет, – сказала Анна, не оглядываясь, как только полная, приземистая фигура подруги показалась в дверях кухни. – Не успела я, Фай, раскроить тебе юбку, замоталась вчера. К вечеру сделаю.
– Анют, слышь, – зачастила Фатима, прислоняясь к косяку, наматывая на палец кончик черной, жесткой косы. – Я не про юбку, я вот чего… Мой-то вчера на рыбалку ходил, слышь. Тебе рыбки не надо? Глянь, лещ какой – огромный, увесистый.
Для верности она приподняла авоську – огромная рыбина покачивалась в ней, поблескивая на Анну тусклым, снулым глазом. Мокрый рыбий запах разлился по кухне, близнята радостно загудели и заскребли ложками по старой клеенке на столе, потянулись к рыбе.
Острая тошнота подступила к горлу. Едва успев бросить полотенце на стол, Анна зажала рот рукой и кинулась к двери.
Когда она вернулась – бледная, едва держащаяся на ногах, – острый, любопытствующий взгляд Фатимы вонзился в нее, как иголка.
– Ты чего? – понизив голос до шепота, спросила подружка. – Неужели опять?
Анна кивнула и, приложив пальцы к губам, оглянулась на дверь.
– С ума сойти, – ахнула Фатима, бросая рыбину на стул. – И сколько уже?
– Две недели задержка, – вяло ответила Анна, зачерпнув воды щербатым ковшиком, жадно глотая.
– А Федор знает?
– Что ты, нет, конечно, – Анна опять оглянулась на дверь.
– И что ж ты делать-то будешь? – в глазах соседки светилось откровенное сочувствие.
– Что! – Анна еле усмехнулась. – К Верке пойду сегодня, что еще…
– Ань, – после паузы спросила Фатима. – А надо ли?
– А что делать-то? – устало спросила Анна, опускаясь на колченогий табурет и слепо тыча ложкой с кашей в перемазанные рты близнят. – Фай, сама подумай, куда мне опять? Этих дай Бог на ноги поднять…
– Ты, подруга, Бога не гневи, – строго проговорила Фатима. – У тебя все-таки мужик есть…
– А толку с него, – махнула рукой Анна. – Одно только слово, что мужик. Все на мне. Чуть не углядишь – он уже у Стеколыча.
Стеколычем они называли пивную у проходной. Все знаменательные даты Федор отмечал там – и если бы только знаменательные. Анна как-то пробовала подсчитать, сколько дней в месяц видит мужа трезвым – и усмехнулась. А кого винить? Некого. Видела ведь, за кого шла.
Анна вышла замуж в восемнадцать лет – не вышла, выскочила за приезжего шофера, красивого, голубоглазого. Федор, старше ее на четыре года, уже отслужил в армии, но возвращаться на родину, на Дальний Восток, почему-то не захотел, остался работать на Урале. На зависть всем местным красоткам бывший сержант почему-то сразу положил взгляд на неказистую, голенастую и худую Анну и добивался ее долго и упорно. Ухаживал красиво, в кино водил; их поселок отличался простотой нравов, и про букеты, которые Федор дарил невесте, долго судачили бабки у ворот. Местные пытались проучить его – он отбивался коротко и умело; «самба» – шепотом рассказывали потом друг другу пацаны. Анна млела, конечно, от такого внимания, но воли его рукам не давала. И все было по-людски – и свадьба с фатой и пьяными выкриками «Горько!», и первая ночь, оставившая ощущение неловкости и страха одновременно, и гордость от штампа в паспорте. Знала она, конечно, что любимый не дурак выпить, да ведь думалось – не он первый, не он последний: все пьют, что тут такого.
Но ей и вправду грех было жаловаться – Федор любил ее. Все вроде как у людей, и жили не хуже других. Только ревновал муж страшно – к каждому столбу, особенно когда пьяный. А пьяным он бывал часто, слишком часто. Но ведь известно – если ревнует, значит, любит…
– Нет, Фай, – проговорила задумчиво Анна, – не хочу я этого больше. Вон пока близнят носила, сколько раз он меня пьяный по огороду гонял. Последний раз думала – скину, уж и срок был немалый… с пузом по капустным-то грядкам побегай! Не хочу. Хватит с меня четверых. Другие бабы и этого не имеют… – Анна помолчала. – Помню, Катерина когда родилась – мы в бараке на Ново-Северном тогда жили, – ох, и горластая девка была! Все ночи орала. А народу-то в бараке сколько, и всем с утра на работу. Так я ее, чтобы людям дать выспаться, на руках в степь уносила. Отойду подальше, хожу с ней – вверх-вниз, вверх-вниз – и реву. Я реву – и она ревет. Так и ходим всю ночь. Как вспомню… – она поежилась и грустно улыбнулась.
– А не боишься? – тихо спросила Фатима, жалостливо глядя на нее.
– Чего бояться-то? – удивилась Анна. – Первый раз, что ли? Я после Катерины раз у нее была, да после Гришки раз… да еще один мертвый родился, – вздохнула она, вытирая перемазанные мордашки близнецов. – Чать, не впервой, не помру, оклемаюсь.
– Ох, Аня, рисковая ты, – покачала головой Фатима. – Ну, смотри, в конце концов твое дело. Может, и права ты. Перехватить твоих-то сегодня?
– Да нет, спасибо тебе. Катюшка вернется из школы, посидит…
– Ну, смотри… А рыбу-то возьмешь?
– Возьму, Фай. Ты только сама ее положи вон туда, у порога. А то я… опять что-то нехорошо… А с юбкой твоей я к завтрему управлюсь.
День разворачивался, минуты летели. Уже вернулись из школы Катюша и Гришка, уже уложила она спать малышей. К Вере – к пяти, до возвращения Федора со смены она как раз управится, успеет. Пеленку не забыть, поискать в старых у близнят. Обед готов вроде, и Федору она с собой завернула. Про юбку бы не забыть…
Низкое сентябрьское солнце висело над головами, когда Анна вышла, наконец, из дома, сжимая в руке неприметный узелок. Ветер гнал пыль по дороге. Вера жила в конце улицы, туда идти-то – всего ничего, но ноги вдруг стали ватными. Устала она, что ли? Или просто страшно? Да глупости какие – первый раз, что ли? Что ж она, словно девчонка…
– Пришла? – сочувственно встретила ее Вера. – Ну, проходи. Раздевайся да ложись вон на стол. Сама, поди, все знаешь…
Ледяными пальцами Анна расстегивала пуговицы на платье. Потом вцепилась в ножки стола и закрыла глаза. Только немножко потерпеть…
Когда она вышла от Веры, в небе высыпали первые звезды. Анна шла тяжело, очень медленно и улыбалась. Ну вот, одной заботой меньше. Вера предупреждала, правда, что еще раз – и вовсе забеременеть не сможет. Да, может, оно и к лучшему. Хватит ей четверых…
Анна шла и прикидывала в уме предстоящие на вечер дела. Проверить у Гришки уроки. Носки Федору заштопать. С Катюшкой сумку довязать – давно обещала показать узор. И юбка для Фатимы. Федор со смены вернется. Холодает. Не затопить ли сегодня печь?
И где-то в глубине души Анна знала, что сегодня ночью ей приснится мальчик, маленький мальчик, которого никогда не будет. И она проснется с криком и долго потом будет стоять у кровати малышей, прижимая ко рту кулак, гася невыплаканные слезы. Но это будет ночью, а пока… А пока у нее еще много дел.
21.10.08 г.
Свидание
Светлой памяти моих бабушки и деда,
Гильмизямал и Ахмета Ахметзяновых
Высокие облака плыли над городским кладбищем, постепенно закрывая солнце. Маленькая сосенка над могильной оградой шевелила пушистыми лапами под порывами теплого ветра. С неба накрапывало, начинался дождь.
Полная, седая женщина выпрямилась, разогнув усталую спину, и окинула взглядом очищенный от сорняков могильный холмик, заново выкрашенную в голубой цвет ограду. Провела ладонью по навершию памятника, осторожно смахнула с него сухие сосновые иглы.
– Все, что ли? – пожилой, крепко сбитый мужчина отставил пустую банку из-под краски, удовлетворенно оглядел могилу. – Как раз хватило…
– Все, – женщина тщательно отряхнула руки. – Оградку поменять бы, конечно… но это уже весной. Пока так…
Она осторожно положила к подножию невысокого памятника охапку пышных астр.
Они постояли молча. Пробившийся сквозь облака случайный солнечный луч скользнул по лицам.
Потом мужчина вытер мокрый лоб, поднял с земли пиджак.
– Пойдем, что ли?
Женщина посмотрела на него – и улыбнулась:
– В волосах иглы, убери…
Легкой ладонью она коснулась его седых прядей, вытащила запутавшуюся в них хвою.
– Сосна, гляди, какая вымахала, – проговорила она негромко. – Думали ведь, не приживется. Да, пора… Ты иди, ладно? А я тебя догоню. У дороги подожди меня.
Мужчина кивнул и зашагал меж оград, путаясь брючинами в высоких метелочках ковыля.
Женщина пригладила волосы, заново повязала белый головной платок. Посмотрела ему вслед из-под приставленной козырьком ладони и вздохнула. Осторожно открыла калитку, снова подошла к могиле. Тяжело опустилась рядом на корточки, погладила фаянсовую фотографию. Из голубоватого овала улыбался худой, скуластый мужчина с заметной проседью в густых темных волосах. Узкие глаза глядели на нее насмешливо и жестко.
– Ну что, Петя, – негромко сказала женщина и коснулась пальцами выбитых букв имени. – Сам видишь, какой он. Добрый. И не пьет. И руки вроде к нужному месту приделаны. Вроде и ничего.
Она помолчала и вздохнула
– Сам же видишь… – повторила, вздыхая. – Одной легко ли? До любви ли мне нынче, – она усмехнулась. – Как ты ушел, жить не хотела…
Она потеребила пальцами концы платка.
– Старая я стала, Петя… Иной раз думаю – уж позвал бы ты меня, что ли, чем одной вот так… Дети – у них ведь своя жизнь, свои заботы. А другой раз подумаю – как их оставлю? Дашку бы еще на ноги помочь поставить, да и Валерка так и не женат…
Она опять помолчала.
– Старая я. И он старый. А вместе все ж легче, чем одной. Вчера вон как прихватило – думала, кончусь. И есть кому воды подать, и «Скорую» вызвать тоже…
Ветер шевелил ветки молодой сосенки, трогал несмятую траву.
– Добрый он. Вежливый. Одинокий – жена, говорит, умерла давно, а сын уже взрослый. Может, и сладится, ничего… Один да один – уже не один…
Узловатыми пальцами женщина поправила разложенные астры.
– Перестал ты мне сниться, Петенька. Значит, хорошо тебе там. Успокоился. Да и пора бы уж – восемь ведь лет. Я уж и лицо твое забывать стала… только во сне и помню. А карточку ту, где мы с тобой после свадьбы, увеличить отдала и в комнате повесила, над комодом. Молодые…
Она грустно улыбнулась.
– Пролетело… Как быстро все пролетело. Анютке-то тридцать пять будет. Как она убивалась по тебе тогда, как убивалась…
Где-то далеко, у дороги, звенели детские голоса.
– Жаль, Дашку, внучку, ты не увидел, – проговорила женщина, и теплая улыбка скользнула по ее губам. – Озорная девка… ох, а своенравная какая, ужас! В тебя. Пять ей будет… уже пять…
Она прижалась лбом к холодному металлу.
– Ты меня прости, Петь… Ты простишь, я знаю. Ты же меня любишь, всегда любил. Дура я была иногда, не видела. Не понимала. Теперь понимаю.
Тишина. Только ветер шумит.
– Пойду я, – тихо сказала женщина. – Пора… Аня просила Дашку забрать, а нам ехать еще. Знаешь… Дашка Колю-то дедом звать стала. Привыкла уже. Да и мы вроде… ничего, свой.
Она тяжело поднялась, постояла, глядя на могилу, улыбаясь воспоминаниям. Потом неторопливо вышла, притворила скрипучую калитку. Оглянулась еще раз. Худое, скуластое лицо с фаянсового медальона улыбалось все так же весело и беспечно.
Мужчина стоял у обочины дороги и курил – одну сигарету за другой, почти непрерывно. Пиджак его был распахнут, словно ему не хватало воздуха.
Женщина тихонько тронула его за руку:
– Что, идем?
Он обернулся – и улыбнулся, затушил сигарету. Осторожно поправил на женщине платок.
– Пойдем, конечно…
Налетевший порыв ветра донес до них шелест ветвей и терпкий запах сосновых иголок.
30.05.2009 г.
Ляльки
Ляльки родились совершенно одинаковые, похожие, как две капли воды – как и полагается близнецам-двойняшкам. Такие одинаковые, что по первости их путала даже мать. Лоб зеленкой мазала той, которую уже покормила; в разные пеленки заворачивала (хотя какие там разные, что нашлось в послевоенных скудных запасах, то и ладно); разные ленты вплетала в косы дочкам. Путали Катьку и Машку все – подружки, родители, соседи. Мать потом как-то приучилась их различать… любая мать видит своих детей даже в полной темноте. Но всех остальных сестры успешно водили за нос – почти всю свою жизнь.



