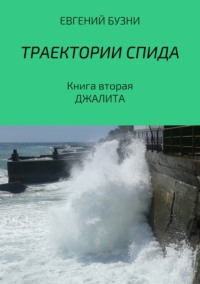полная версия
полная версияЛитературное досье Николая Островского
Всего хорошего.
С коммунистическим приветом!
Н. Островский.
Срочно подтвердите получение рукописи".
В выходных данных книги "Рождённые бурей", выпущенной издательством "Курская правда" стоит запись: "Сдано в набор 11/Х-36 г.", что позволило некоторым исследователям полагать, что эта книга вышла, чуть ли не при жизни её автора. Однако чёрная траурная рамка, очертившая даты жизни писателя под книжным портретом, говорит о выходе книги после его смерти. Год выхода обозначен 1937. Что же касается сдачи в набор 11 декабря, то это может означать лишь то, что ответственный редактор Л.Л. Айзенберг поставил эту дату, отметив сдачу первых двух глав, а не всего романа.
Между тем и в последующих главах романа правки вносились весьма существенные. Прежде всего, структурные. Вместо бывших девяти глав в книге их стало двенадцать. Конец шестой главы объединяется с началом седьмой главы, длинная часть которой в свою очередь делится на восьмую и девятую и десятую главы. Бывшая восьмая глава, захватив кусочек девятой, становится одиннадцатой главой. Оставшаяся часть бывшей девятой главы делится на двенадцатую – последнюю главу первой части и первую главу второй части.
Но Островский не ограничивается мелкими правками структурной перестройки текста. Совещание писателей-мастеров пера он собирал отнюдь не ради рекламы или формального признания работы. Он явно не относился к бюрократам и его действительно интересовала критика, о которой он говорил много раз, в том числе и в своём вступительном слове на этом знаменательном совещании, где сказал:
"У меня есть решительная просьба, которую я высказывал неоднократно в письмах к товарищам и в личных беседах, чтобы наше обсуждение шло по следующему желательному для меня и всех нас направлению.
Прошу Вас по-большевистски, может быть, очень сурово и не ласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе. Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности её. И я боюсь, что это может послужить препятствием для жёсткой критики. Этого не должно быть. Каждый из Вас знает, как трудно производить капитальный ремонт своей книги. Но, если это необходимо, – нужно работать.
Я настойчиво прошу Вас не считать меня начинающим писателем. Я пишу уже шесть лет. Пора за это время кое-чему научиться. Требуйте с меня много и очень много. Это самое основное в моем выступлении. Подойдите ко мне, как к писателю, отвечающему за своё произведение в полной мере, как художник и как коммунист. Высокое качество, большая художественная и познавательная ценность – вот требования нашего могучего народа к произведениям советских писателей. А делом нашей чести является выполнение этих справедливых требований".
И эту критику от своих старших собратьев по перу он получил. Замечания, которые показались Островскому наиболее существенными, он постарался устранить сразу после совещания. Какими же были эти срочно вносимые правки?
Е.Ф. Усиевич – известный в то время литературный критик – обратила внимание на ненужный, по её мнению, эпизод с портсигаром, имевший место в первой главе и, как говорится, не стрелявший, то есть не имевший значения для последующих действий и потому лишь напрасно отвлекавший внимание читателя.
Островский убирает историю с портсигаром.
Писатель В.П. Ставский выразил удивление, каким образом и почему почти весь ревком, кроме Раевского, был арестован. Ему казалось, что читателю без пояснений это тоже будет непонятно.
Островский дописывает в конец десятой главы огромный кусок текста. При этом, явно вспомнив свою любимую книгу "Овод" Войнич, причиной провала ревкома делает случайную информацию, которую, ничего не подозревая, выдаёт ксендзу сестра Ядвиги Марцелина. Так же когда-то во время исповеди, свято веря в её таинство, рассказал о своих политических друзьях Артур Бертон-Овод.
Александр Фадеев в числе других замечаний обратил внимание на то, что для среды польских дворян не было типичным выражение "захватить власть", и Островский слова Эдуарда Могельницкого "Послезавтра мы решили захватить власть в нашей округе" заменяет другими: "Послезавтра мы решили выступить".
Александр Серафимович посчитал нужным усилить воздействие непрерывно ревущего гудка на рабочих, показать пробуждающуюся по гудку толпу, и вот в рукопись добавляется небольшое, но яркое описание:
"Наэлектризованные этими криками, гудком и всем происходящим у них на глазах, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетьми.
Заремба охрип от крика. Сопротивляясь, разъярённые рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор".
И так по каждому замечанию. Титанический труд был проведен в короткий срок. Ровно через месяц со дня памятного совещания работа по внесению правок была завершена, а через неделю писателя не стало. Смерть всё-таки настигла его, но, подумать только – через неделю после того, как книга была закончена, а не до этого. Человек, прикованный болезнью к постели, устремив далеко вперёд по форме незрячие, а по сути хорошо видящие жизнь глаза, как бы отталкивал смерть, говоря ей: "Погоди! Мне не до тебя. Сейчас кончаю". И как только закончил книгу, тут же ушёл из жизни, успев со всем распорядиться.
14 декабря в Азчеркрайиздат и переводчику украинского теста Варавве летят телеграммы:
«16 декабря поездом номер 25 вагоне седьмом место 25 выезжает Сочи мой секретарь Лазарева. Обязательно встретьте её вокзале, получите окончательный текст рукописи. Островский»
И в тот же день он написал последнее в своей жизни письмо. Адресовано оно было матери:
"Милая матушка!
Сегодня я закончил все работы над первым томом "Рождённых бурей". Данное мною Центральному Комитету комсомола слово – закончить книгу к 15 декабря – я выполнил.
Весь этот месяц я работал "в три смены". В этот период я замучил до крайности всех моих секретарей, лишил их выходных дней, заставляя работать с утра и до глубокой ночи. Бедные девушки! Не знаю, как они обо мне думают, но я с ними поступил бессовестно.
Сейчас всё это позади. Я устал безмерно…"
Устал. Решил немного отдохнуть. Расслабился и пропустил шанс ещё раз оттолкнуть смерть. И всё же в этом единоборстве победила не она.
Островский писал матери, что книга выйдет из печати через три недели. Он ошибся. Она вышла из печати через двенадцать дней. И как ни парадоксально, поторопила выход книги сама смерть. Когда она пришла к писателю, рабочие московской типографии уже набирали текст книги. Подписана к печати 23.12.36 г. Вышла в свет 26 декабря.
Жена писателя, Раиса Порфирьевна Островская рассказала об этом:
"Рабочие, узнав о смерти Николая Островского, работали бессменно: решили выпустить книгу ко дню похорон. И мы, родные, получили в день похорон это первое, траурное издание "Рождённых бурей" с памятной надписью от Центрального Комитета ВЛКСМ".
Надпись на обложке первой книги "Рождённых бурей" делал Александр Косарев, тот самый, чья фамилия впоследствии исчезла из печати, а опубликованные им материалы изымались, чтобы попасть в секретные папки секретных архивов вместе с материалами некоторых других друзей и соратников Николая Островского.
Однажды в письме секретарю ЦК комсомола Украины С. Андрееву Островский писал:
"Ты, наверное, знаешь, что украинское правительство постановило построить мне в Сочи дачу. И товарищ Косиор уже утвердил проект строительства в огромную сумму 100 000 рублей. Я смущён всем этим необычайно. Ты понимаешь, Серёжа, я – обыкновенный старый комсомолец, таких тысячи. Правда, я, может быть, немного упрямее других в смысле сопротивления стихии. Но меня молодёжь подняла на щит, в первую очередь вы, украинцы, и назвала меня героем. Вспоминая свою скромную биографию, я искренне думаю, что я не заслужил такого высокого звания. Ты понимаешь, Серёжа, не смотря на всё моё сопротивление, десятки писем и статей моих, всё же книга "Как закалялась сталь" трактуется, как история моей жизни, как документ от начала до конца. Её признают не как роман, а как документ. И этим самым мне присваивается жизнь Павки Корчагина. И я ничего не могу сделать против этого.
Когда я писал эту книгу, я не знал, что так всё получится. Мной руководило лишь одно желание – дать образ молодого бойца, на которого равнялась бы наша молодёжь. Конечно, я вложил в этот образ немного и своей жизни".
Каждый писатель вкладывает в литературное произведение частицу своей жизни, своей души. Вложил её и Николай Островский. И не только в первую книгу, но и в роман "Рождённые бурей", который по окончании должен был стать хроникой самого напряжённого периода жизни целого поколения людей, рождённых бурей революции, людей, к которым принадлежал и сам Николай Островский – писатель.
ТАЙНЫ МЁРТВОГО ПЕРЕУЛКА
Я называю так главу книги отнюдь не с целью придания ей детективного оттенка, а по причине того, что Николай Островский написал первую часть своего романа "Как закалялась сталь" именно в Москве в небольшой комнатушке, находившейся тогда по адресу Мёртвый переулок, дом 12. Так же я озаглавил и свою первую публикацию о Николае Островском, которая появилась в еженедельнике "Современник" в октябре 1988 г. Тогда это было своего рода сенсацией. Заместитель директора по научной работе Московского музея Николая Островского Татьяна Андреевна Латышева сказала мне, прочитав статью, весьма откровенно: "Я вам честно скажу, Евгений Николаевич, если меня моё руководство в Министерстве и ЦК комсомола будут ругать за эту публикацию, я тоже вас не пощажу, если будут хвалить, то и мы вас похвалим. Поймите нас правильно. Публикацию вы с нами не согласовывали. Так что не обессудьте в случае чего". Но, то ли потому, что публикация понравилась начальству, то ли потому, что в стране шёл политический развал, и всем было не до Островского, но никого за мой материал не ругали, так что и я обошёлся без особых выговоров.
Тогда я был новым сотрудником музея и до сих пор очень признателен Латышевой за то, что она ввела меня в мир неизвестного Островского, позволив искать и находить, не смотря на то, что не всем это нравилось. В то время живы были жена Островского Раиса Порфирьевна, первый редактор романа "Как закалялась сталь" Марк Борисович Колосов, секретарь Островского, писавшая под диктовку несколько глав романа, Галина Алексеева, друг Островского Николай Новиков. Все они имели отношение к написанию первой части романа, все оставили свои воспоминания об этом периоде, все вспоминают по-разному моменты публикации романа, но как ни странно, оставив неясными вопросы: когда на самом деле и почему Николай Островский начал писать свой ставшим знаменитым роман? Почему в редакциях нескольких журналов и издательств ожидали рукопись романа, который ещё не был написан никому не известным автором? Почему в первую часть романа Островского попали факты жизни из биографии Аркадия Гайдара?
Ответы на эти вопросы мог дать Мёртвый переулок. Попробуем же раскрыть хотя бы некоторые из его тайн. И начну я со своей первой публикации в "Собеседнике".
"УРОКИ ПРАВДЫ
Приступая к работе над произведениями Н. Островского, собрание сочинений которого издательство «Молодая гвардия» решило переиздать, я не ожидал больших трудностей. Предстояло сверить текст романа «Как закалялась сталь», изданного в трёхтомнике 1974 года с пятым прижизненным изданием, вышедшим в 1936 году, то есть с тем изданием, которое автор признал каноническим для всех последующих переизданий. Читая пятую главу второй части романа, где рассказывается о городской партконференции, делегатом которой был и Павка Корчагин, я обратил внимание на слова Окунева, сказанные им Панкратову при входе в театр:
«Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с «рабочей оппозицией» к нам возвращался».
«Рабочая оппозиция». Фракционная группа, во главе которой наряду с А. Г. Шляпниковым была и знаменитая женщина-дипломат А. М. Коллонтай. Какое место ей было отведено в книге? Сопоставив пятое издание этой части романа с первым, вышедшим в 1934 году (1-я часть впервые выпущена отдельной книгой в 1932 г.), я с удивлением вместо выше процитированных слов прочел: «Тогда Корчагин и Дубава к нам возвращались». Речь идёт о возвращении из оппозиции.
Но в книге и намека нет на его отход от партии. Ответ нашелся в переписке Островского, опубликованной в третьем томе сочинений. В письме главному редактору издательства «Молодой большевик» К. Д. Трофимову Николай Островский писал:
«…в этом третьем издании по моему желанию выброшен эпизод, где Павка попадает в рабочую оппозицию (начало первой главы второй части).
Исправления и добавления там небольшие, но очень важные политически. Например: зачеркнуть Павла в рабочей оппозиции и в соответствии с этим зачеркнуть строки в последующих страницах, которые об этом так или иначе напоминают. Сделал я это потому, что образ молодого революционера нашей эпохи должен быть безупречен, и незачем Павке путаться в оппозиции. Тем более что здесь я не грешу против правды».
Действительно ли не грешил? Я взял рукопись и стал читать страницу за страницей. Я открывал для себя новые, никогда не публиковавшиеся страницы и в них нового Павку Корчагина и нового Николая Островского. Нет, любимый мною в школьные годы Павка не был безупречной монолитной глыбой с самого рождения. Он закалялся не только в борьбе с петлюровцами и кулаками – в жестокой борьбе с самим собой. Вот как об этом рассказано в рукописи восьмой главы первой части книги.
«В железнодорожном райкоме комсомола появился новый секретарь Жаркий. Павел встретился с ним в отсека и первое, что бросилось в глаза – это орден. Чувсто встречи Павел не смог сразу освоить, но где-то в глубине самого себя всё же колыхнулась ревность. Жаркий герой Красной Армии, тот самый Иван, который там, под Уманью, сразу начал борьбу за первенство в отваге и исполнении боевых заданий. Теперь Жаркий секретарь райкома, его непосредственное "начальство".
Жаркий встретил Павла дружески, как старого приятеля, и Корчагин, устыдясь своего мимолётного чувства, крепко с ним поздоровался.
Работали споро и слыли друзьями. На губернской конференции от железнодорожного райкома вошли в состав губкома комсомола двое: Павел и Жаркий. Корчагин добыл у администрации небольшую комнату; поселились в ней коммуной: Жаркий, Павел, Старовой – агитпроп коллектива и Званин – член бюро коллектива. Дни проходили в работе; лишь поздно ночью друзья возвращались домой.
Первые весточки о новой политике партии получили в губкоме, но это были лишь обрывки, ещё не сформированные. Но через несколько дней, на первой проработке тезисов, обозначились разногласия. Павел не совсем понял установку тезисов, но ушёл с совещания с тяжёлым чувством недоверия и сомнения. Встретился в литейном с Дударковым, приземистым мастером-коммунистом. И тот, мигая выцветшими глазами на свет, остановил Корчагина:
– Что это, в самом деле, буржуев возвращают на старое место? Говорят, магазины откроют. Торговля пойдет во всю ивановскую. В общем, били, а потом здравствуйте, всё по-старому.
Павел ему не ответил, но сомнения заползали к нему всё больше и больше.
В борьбу против партии втянулся незаметно, но когда втянулся, то сразу же повёл её остро. Первое его выступление на пленуме губкома вызвало бурную дискуссию. Сразу же разделились на меньшинство и большинство. А дальше закружились больные дни. Вся парторганизация, комсомол лихорадили в дискуссионной горячке. И непримиримая позиция Корчагина и его товарищей создали в губкоме невыносимую атмосферу.
Яким, секретарь губкома, крутолобый, весь начинённый энергией, развитой и политически, вместе с Устинович пытались индивидуально проработать вопросы с Корчагиным и его единомышленниками, но из этого ничего не вышло. Павел в упор поставил грубо и прямо следующее определение:
– Ты мне ответь, Яким, буржуазия получает права на жизнь. Я в высокой теории не разбираюсь. Я понимаю одно, что НЭП – это предательство нашего дела. Не за это мы боролись, и мы, рабочие, с этим не согласны и будем против этого бороться изо всех сил. А вы, может быть, хотите буржуйскими лакеями сделаться? Пожалуйста. Яким вскипел:
– Павел, ты пойми, что ты говоришь. Ты оскорбляешь всю партию. Ты клевещешь на неё. Ты уперся в своём фанатизме и не желаешь понять простых вещей, что, ведя дальше политику военного коммунизма, мы погубим революцию, мы дадим возможность контрреволюции поднять против нас крестьянство. Ты не желаешь этого понять. А раз ты не хочешь по-большевистски проработать этот вопрос, а угрожаешь борьбой, то мы будем бороться. Мы и так потратили на вас массу времени совершенно бесполезно.
Они расстались врагами.
После выступления на общепартийном собрании района, где приезжие из центра представители рабочей оппозиции были провалены большинством, Павел выступил с недопустимо резкой речью, с обвинением партии в предательстве.
На другой день экстренным пленумом губкома был исключён из его состава вместе с четырьмя другими товарищами. С Жарким он не разговаривал. Они были в двух различных лагерях. И Павлу удалось провалить Жаркого на собрании своего коллектива, где за Павлом шло большинство. Борьба углубилась, и в результате неё Павел был исключён из райкома и снят с секретаря коллектива. Последнее привело к бурному столкновению, и два десятка товарищей сдали свой комсомольский билет. И, наконец, Корчагин с его единомышленниками был исключён из организации».
Меня заинтересовало дальнейшее развитие событий, как в рукописи, так и в жизни самого Островского. Нам менее всего известен киевский период его жизни – с 1920 по 1923 год. Время нэпа. Достоверных документов этих лет в шести музеях Н. Островского нет. Но есть свидетельства, говорящие о том, что Островский вступил в комсомол в 1919 году. Достоверно и то, что в Берездове Николая Островского приняли в комсомол в 1923 году. Возможно, верны оба факта. В таком случае он мог быть исключён из комсомола, находясь в Киеве, как это было с Павкой в рукописи. И всё же пока это лишь предположение.
Чтобы проверить эту версию, я отправился в бывший Мёртвый переулок, где жил писатель, когда создавал первую часть романа «Как закалялась сталь».Затем отыскал в маленькой однокомнатной московской квартире первого редактора романа «Как закалялась сталь» Марка Борисовича Колосова. От него услышал:
– Да-да, всё правда. Островский писал то, что было с ним. Мы обсуждали это. Он ничего не выдумывал.
«Для него наступили мрачные дни, самые беспросветные, какие он только видел в своей жизни.
Жаркий из коммуны ушёл.Выбитый из колеи, морально подавленный, Павел стоял на мостике, идущем над вокзалом, и ничего не видящими глазами смотрел вниз, где взад и вперёд двигались паровозы и составы. Его кто-то тронул за плечи. Это был Орешников, бугреватый, весь в веснушках, комсомолец. Павел его недолюбливал и раньше за его пронырливость и всезнайство. Был он секретарём ячейки на кирпичном заводе.
– Что, тебя исключили?– спросил он, бегая по Павлу белёсыми глазами.
– Да,– коротко ответил.
– Я всегда говорил,– заторопился Орешников.– Что ты хочешь? Ведь везде жиды сидят. Они везде пролезли, везде командуют. Им выгодно эту лавочку устроить. Ведь на фронте ты воевал, а они дома сидели. А теперь тебя исключают, —гадливо подхмыкнул.
Павел смотрел на него глазами, полными ненависти, и, чувствуя, что сейчас произойдет что-то нехорошее, не имел сил сдержать себя. Его рука схватила Орешникова за грудь, и вне себя Павел рвал его во все стороны.
– Ты, белогвардейская душа, проститутка проклятая, ты что сказал? Ты кому это сказал, кулацкая душа? Ты, гад, знаешь, что когда в моем городе белые большевиков расстреливали, так больше половины из них были евреи-рабочие. Эх, ты! С кем говорить? И ты к оппозиции примкнул? Стрелять таких гадов надо.
Орешников вырвался и полетел стремглав вниз по лестнице. А Корчагин смотрел ему вслед дикими глазами. «Так вот ещё кто с нами согласен!»
Осознав, в какое болото попал Корчагин со своими необдуманными оппозиционными мыслями, автор вытаскивает его оттуда мощным ярким выступлением самого Павки.
«Оперный театр был наполнен людьми. Они узенькими ручейками вливались во все входы и заполняли партер и ярусы. Это было объединённое заседание общегородской парторганизации совместно с комсомолом. Подводились итоги внутрипартийной борьбы.
В фойе театра и в проходе партера шли разговоры о том, что сегодня ожидают возвращение членов рабочей оппозиции партии. В переднем ряду сидели Жухрай, Устинович, Жаркий, обсуждая этот вопрос. Рита отвечала Жаркому:
– Они возвратятся. Жухрай говорит, что перелом уже произошёл. Бюро губкома решило: в случае возвращения и осуждения своих ошибок, принять всех обратно, создать товарищескую атмосферу и в знак доверия и искренности возвращающихся на предстоящем съезде ввести Корчагина членом губкома. Я с большим волнением ожидаю начала.
***
Председатель долго звонил. Когда зал успокоился:
– Теперь, после доклада губкома партии, даём слово представителям оппозиции в комсомоле. Слово предоставляется товарищу Корчагину.
Из последних рядов поднялась фигура в защитной гимнастёрке и быстро взбежала по мостику на трибуну. Откинув голову назад, придвинулась к самому барьеру и, пробежав рукой по лбу, словно что-то вспоминая, упрямо тряхнула кудрявой головой и обе руки крепко легли на спинку барьера.
Павел увидел наполненный людьми театр, он чувствует тысячи глаз, устремлённых на него, огромный партер, и все пять ярусов театра затихли, ожидая.
Эти несколько секунд, которые он стоял молча, стараясь побороть охватившее его волнение. Оно было так велико, что он не нашёл сил говорить сразу.
Недалеко от трибуны, в переднем ряду, рядом с Устинович, цельной глыбой сидел в кресле председатель губчека Жухрай. Он смотрел на Павла выжидающе и улыбнулся неожиданно улыбкой сурово ободряющей. И как-то тяжело было видеть в этой могучей фигуре пустой рукав френча, засунутый в карман за бесполезностью. На левом кармане френча окаймлённый тёмно-багровой лентой поблескивал овал <ордена> красного знамени.
Павел оторвался взглядом от переднего ряда, ведь надо было говорить, его ждали. И звонко, во всю силу напряжённого, как перед ударом, всего своего существа, бросил в зал:
– Товарищи! – и побежало на подъём сердце, и чувствовал – весь загорается ярким, жгучим, и почудилось, словно зал зажжён тысячами люстр, и отсвет
их ожёг тело. И слова страстные, как схватка, ударились в зал, и тысячи людей, когда к ним долетели эти слова, тоже стали наполняться волнением. А голос юный, звонкий, до краёв наполненный неудержимой страстью энтузиазма, вспыхивал искрами. И они, эти искры, долетали до самых далеких ярусов, под самый купол свода.
– Я должен говорить сегодня о прошлом, вы ожидаете моих слов, и я буду говорить. Я знаю, речь моя будет тревожная, и это, наверное, не политика. Это речь от сердца, от всего меня, от всех тех, кого я сейчас представляю. Я буду говорить о жизни нашей, о пламени, которым горим, которое сжигает нас, как сжигает уголь гигантская глотка топки. Нашим огнём живёт страна, нашим огнём республика победила. И мы, юные, огнём захваченные, вместе с вами ,жизнь видавшие, обновляли землю. Дрались жестоко под одними знаменами нашей партии великой, невиданной железной партии. Два поколения гибли в сечах, отцы и дети. Два поколения собрались сейчас здесь. И ожидаете от нас, своих сподвижников, совершивших тягчайшее преступление, мятеж против своего класса, против своей партии и порвавших железный закон партийной дисциплины, ждете ответа…
Как могло случиться так, товарищи, что мы, опаленные огнём революции, чуть было не предали её? Как могло это случиться? Всем вам известна история нашей борьбы, борьбы с вами, большинством партийной организации. Как могло случиться то, что мы, не отстававшие от вас в самые мрачные дни для нашей республики, подняли этот мятеж?
Воспитанные непримиримой ненавистью к буржуазии, мы приняли НЭП как контрреволюцию. Поворот партии к НЭПу, к этой новой форме борьбы пролетариата против буржуазии, только в другой форме, на других позициях, мы приняли, как предательство интересов нашего класса. Наша борьба стала еще более непримиримой, потому что среди старой гвардии большевиков были товарищи, тоже поднявшие мятеж против решения партии. И мы, молодёжь, зная их долголетнюю работу, шли за ними, считая их истинными революционерами-большевиками. Оказалось мало одного энтузиазма, мало одной преданности революции. Надо уметь понять сложнейшую тактику и стратегию гигантской борьбы.