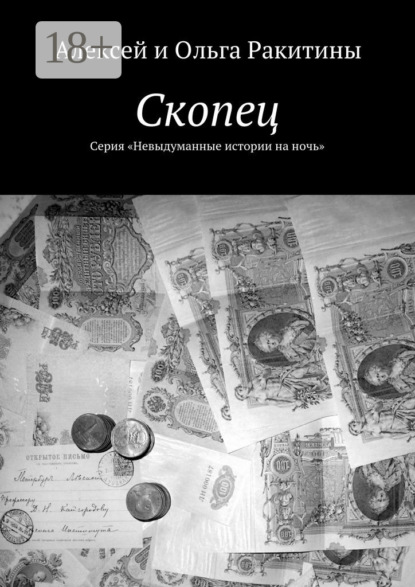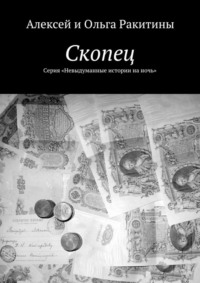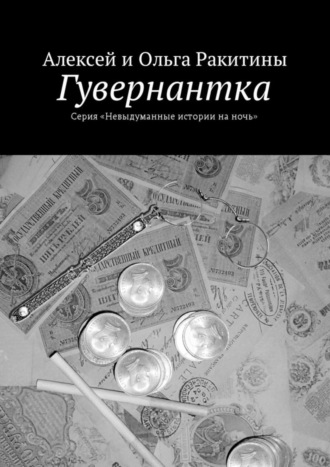
Полная версия
Гувернантка. Серия «Невыдуманные истории на ночь»
Наступила пауза. Не давая ей затянуться, полковник произнес:
– Господа, квартира в вашем полном распоряжении. Все мы окажем Вам всемерное содействие. Я сам провожу вас в комнату Николая, ведь вы захотите начинать обыск оттуда?
Прознанский не задумываясь употребил слово «обыск», которого сам Шидловский, щадя чувства родных покойного, всячески избегал. Но полковник, видимо, не обратил ни малейшего внимания на эту деликатность.
Слуги отправились на кухню, дети с гувернанткой – в музыкальную гостиную, а Шумилов пошел на лестницу звать полицейских, до той поры не входивших в квартиру. Вместе с полицейскими за дверью стояли и понятые – старший домовой дворник и два его помощника – все трое здоровые мужики, кровь с молоком. Шумилов, краем глаза посмотревший на них, отметил их молодость: в дворники согласно полицейской инструкции набирали отслуживших солдат, поэтому как правило это были мужчины лет пятидесяти и даже старше. Дворники же в доме Прознанского были явно моложе. В ту минуту Шумилов не придал особого значения своему наблюдению, хотя впоследствии вспомнил о нем.
Полковник с женой под руку, доктор с Вадимом Даниловичем во главе тем временем прошли в дальнюю комнату, ту самую, где провел свои последние дни Николай Прознанский. Это была уютная, обставленная добротной мебелью и, в общем-то, обыкновенная комната студента. Два книжных шкафа, письменный стол, этажерка с экзотическими безделицами – камнями, раковинами, курительными трубками, портрет некоего импозантного мужчины с каким-то словно онемевшим лицом, множество дагеротипов рамках по стенам. У стены, противоположной окну, рядом с печным углом стояла заправленная металлическая односпальная кровать.
– Это комната Николая, здесь он находился во время болезни, здесь же мы его нашли в то утро… – голос Софьи Платоновны задрожал, она сделала судорожное движение и, поддержанная мужем, опустилась на стул.
На пороге комнаты появились понятые и околоточный, они заглядывали через дверной проем, но внутрь не заходили, дабы не создавать лишней толчеи. Последовали привычные для этой процедуры вопросы: куда выходит окно? передвигалась ли кровать? курил ли покойный? какой табак? принимал ли гостей в своей комнате? Шумилов, обойдя комнату по периметру, осмотрел окно, всё ещё закрытое на зиму и присел к столу, собираясь приступить к составлению протокола осмотра и акта об изъятии личных бумаг покойного.
Его внимание привлек довольно большой, грамм на сто, конический пузырек темного стекла, аккуратно задвинутый за чернильный прибор на тумбочке у изголовья кровати и потому почти незаметный со стороны.
– Скажите, доктор, а что это такое? – Шумилов подал Николаевскому свою находку. Врач аккуратно отвернул плотно притертую пробку и принюхался. Он не успел ответить, Софья Платоновна опередила доктора:
– Этот пузырек с микстурой для Николаши, он ведь болел краснухой. Эту микстуру прописал Николай Ильич и мы тщательно следили, чтобы она принималась вовремя. Молодежь, сами знаете, не очень-то аккуратна в этом смысле.
– И когда он принял её в последний раз?
– Накануне с…, – Софья Платоновна запнулась, – случившегося, то есть вечером 17-го. Мадмуазель Мари, гувернантка, подала их Николаше. Она на другой день сама об этом рассказала, да вы у неё спросите.
– Видите ли, господа, – вклинился в разговор доктор, – должен заметить, что эта микстура совсем не похожа на ту, что я прописывал Николаю. У неё должен быть ярко выраженный травяной запах и вкус, а эта ничем таким не пахнет, убедитесь сами.
Шумилов взял у доктора склянку и осторожно понюхал содержимое.
– Да, действительно, никакого травяного запаха.
– Забери это для анализа, – распорядился Шидловский, внимательно следивший за разговором.
– Я сразу обратил внимание, что микстура страно пахнет, вернее на то, что у неё нет присущего ей запаха. Да, сразу же, когда приехал утром 18-го, – продолжал доктор.
– И тогда я забрала этот пузырек в свою комнату, – Софья Платоновна говорила словно через силу, было видно, что каждое слово ей дается с трудом.
«Это довольно-таки жестоко – заставлять мать переживать все заново, и это сейчас, когда сына едва успели похоронить,» – подумал Алексей Иванович, но это были те сантименты, которые он никогда бы не осмелился повторить вслух. Вместо этого Шумилов спросил:
– А почему Вы, Софья Платоновна, забрали пузырек в свою комнату, почему просто не выкинули?
Женщина мелко затрясла головой, кудри, небрежно уложенные в прическу, казалось, были готовы сейчас рассыпаться:
– Я не знаю, не знаю!… возможно, я предчувствовала что-то нехорошее… Мне казалось, будет лучше, если микстура постоит у меня, в целости и сохранности. Правда, потом, когда через 2 дня доктор заехал опять и увидел, что пузырька нет на месте, я вернула его на николашину тумбочку. Так она с тех пор и стоит тут.
– Да, – подтвердил доктор, – в тот день должно было состояться анатомирование тела Николая, и я решил по пути проведать Софью Платоновну, у нее в силу очевидных причин было плохое самочувствие, – с этими словами доктор посмотрел на хозяйку дома, – Правда, было еще одно обстоятельство… Знаете, в моей практике подобных инцидентов – когда больной внезапно умирает без видимых на то причин – я даже не припомню, это нонсенс. Конечно, я задавал себе вопрос – правильны ли были мои назначения, нет ли тут моей вины. Понимаете? Меня это очень беспокоило. И поэтому я хотел еще раз проверить все препараты, которые принимал Николай. Не обнаружив микстуры, я спросил у Софьи Платоновны и, узнав, что она хранилась эти дни в ее комнате, попросил вернуть флакон на место… Как чувствовал, что это может оказаться важным.
– Скажите, Софья Платоновна, – тут включился в разговор Шидловский, – а эта комната стояла закрытой после смерти Николая? Мы можем быть в этом уверены?
– Нет, что Вы, – как-то смешалась Софья Платоновна. Она, казалось, совсем не ожидала такого вопроса, – Нет, мы не стали её закрывать, в этом совершенно не было нужды. В ней ночевала мадемуазель Мари.
В воздухе повис невысказанный вопрос, и тогда Софья Платоновна, будто спохватившись, пояснила:
– Наша гувернантка, мадемуазель Мари, вообще-то живет на своей квартире и каждый день приходит заниматься с детьми. В то утро, – она запнулась, – узнав страшную новость, она сразу же приехала и оставалась у нас вплоть до похорон. И ночевала в николашиной комнате.
– Мадемуазель Жюжеван уже пять лет воспитывает наших детей, – вмешался молчавший до того полковник и его слова зазвучали очень весомо, – она – близкий и ценимый всеми человек, как член семьи. Раньше она постоянно жила в нашем доме, но когда Николай поступил в университет, нагрузка мадемуазель стала существенно меньше, у неё образовалось свободное время и, с нашего согласия, она стала давать уроки в других семействах и съехала на отдельную квартиру. Но у нас она, конечно, проводила большую часть дня.
Между тем обыск продолжался. Найденные в письменном столе записки, письма, разрозненные бумаги покойного собрали в картонную коробку, их оказалось не так уж и много. В углу комнаты стоял запертый на замок шкаф. Небольшой латунный ключик нашелся в выдвижном ящике письменного стола в лаковой палехской шкатулке.
– Это химический шкафчик Николая, – пояснил полковник, – Он последние год-полтора очень увлекался химией, всё экспериментровал.
Открыв шкаф, Алексей Иванович увидел ряды баночек, скляночек, пузырьков, пробирок, колб и реторт. Здесь же были спиртовка, большой ком ваты в картонной коробке, кусок черного дегтярного мыла. В коробке из-под монпансье лежало множество бумажек, свёрнутых в виде медицинских конвертиков, в которых больным дают порошки в больницах. Почти все склянки были с этикетками, на которых от руки были выведениы латинские названия. В шкафу Николая Прознанского хранилась настоящая химическая лаборатория, причем очень дорогая, если судить по немецким клеймам на стекле.
– М-да, – Шидловский только головой покачал, рассматривая содержимое шкафа, – Забирай-ка всё это на экспертизу, Алексей Иванович.
Шумилов сел писать перечень изымаемого имущества.
– А Вы, Дмитрий Павлович, – обратился между тем помощник прокурора к полковнику, – не могли бы мне сказать, есть ли в Вашем доме морфий?
Полковник быстро и прямо взглянул в лицо Шидловскому:
– Да, есть. Но он в недоступном месте, заперт в моем кабинете. Знаете ли, когда в доме дети… Это в целях безопасности.
– Могли бы Вы мне его показать?
– Разумеется, прошу за мной.
Они вышли, но дверь не прикрыли и Шумилов, продолжавший писать, мог слышать продолжение разговора.
– Скажите пожалуйста, Дмитрий Павлович, – продолжал допытываться Шидловский, – а его не могли взять 17-го числа без вашего ведома?
– Нет, однозначно нет. По целому ряду причин. Достаточно сказать, что 17-е апреля было воскресенье, я был весь день дома, практически все время провёл в кабинете. Да и гость у меня был, Леонард Францевич Польшаун, мы весь вечер провели с ним. В восемь часов подали ужин, к нам присоединилась мадемуазель Мари. Потом мы опять разошлись – она пошла в комнату к Николаю – потому как она весь день за ним ухаживала, а мы вернулись в кабинет. Польшаун уехал около 23-х часов, а Жюжеван – примерно в четверть двенадцатого.
– Есть ещё какая-то причина Вашей уверенности? – спросил Шидловский.
– Скажем так, Вадим Данилович, по роду своей службы я охраняю самые важные секреты, как других людей, доверившихся мне, так и государственные. От того, сколь хорошо я буду хранить эти секреты, зависят жизни множества людей. В буквальном смысле, это не метафора. Если Вы думаете, что в моём собственном доме может быть какой-то непорядок, что из моего собственного кабинета можно что-то незаметно украсть, то… Вы глубоко ошибаетесь.
В интонациях полковника проскальзывали недовольные и даже сердитые нотки. Шидловский, видимо, вызвал его раздражение. Да это и понятно – кому покажется приятной мысль о том, что ребёнок погиб от яда, хранящегося в отцовском шкафу? Шумилов же, слышавший этот ответ от первого слова до последнего, почему-то подумал, что жандармский полковник был, конечно, человек неглупый, но весьма самонадеянный.
Пока становой аккуратно упаковывал в коробки содержимое химического шкафчика (Шумилов вкладывал внутрь опись и опечатывал каждую коробку), доктор Николаевский обратился к Шидловскому:
– Господин помощник прокурора, должен заявить, что в доме должен быть еще морфий. Правда, в составе капель от бессонницы, которые я прописывал Софье Платоновне еще в начале апреля. Но там морфия совсем незначительное количество, его невозможно было использовать как яд.
– Да, это так, сейчас я их принесу, – с этими словами Софья Платоновна поднялась с стула и вышла из комнаты. Через минуту она вернулась, держа в руках аптечный пузырек с оттопыренной бумажкой, приделанной к горлышку флакона.
Шидловский внимательно рассмотрел принесенные капли. Флакон был почти не тронут. Было очевидно, что если их и употребляли, то не больше одного-двух раз.
– Капли заказали в аптеке по рецепту Николая Ильича, а забрала их мадемуазель Мари, это было еще числа 11—12 апреля.
– Скажите, а она вообще часто выполняет подобные поручения? – спросил Алексей Иванович. Возможно, ему не следовало вмешиваться в этот разговор, но как показалось Шумилову, подобные услуги не входят в число обязанностей гувернантки.
Софья Платоновна, угадав ход его мысли, поспешила дать подробное разъяснение:
– Мадемуазель Жюжеван не просто гувернантка в нашем доме. – она замолчала, видимо, тщательно подбирая слова, – Мы относимся к ней, как к члену семьи, мы ей всегда доверяли, в конце-концов, на её глазах росли наши дети. Всё-таки 5 лет, согласитесь, срок немалый. Она ведь и жила в нашем доме, причем довольно долго жила. И, заметьте, на полном пансионе, как говорится. Благодаря нам она заработала неплохие деньги, уверяю вас, стала, наконец, самостоятельной женщиной. И что же тут удивительного, если ей хочется быть полезной людям, которые всегда были к ней столь расположены?
Вопрос был риторический, он и прозвучал не как вопрос, а скорее как оправдание.
«Да, видимо, и в самом деле положение этой француженки в доме было не совсем обычно, – подумал Шумилов, – Выполняет почти интимные поручения хозяйки, долгое время живет в семье… именно она, а не мать, сидит целыми днями у постели больного Николая. А потом ее оставляют ночевать в спальне умершего. Надо будет повнимательнее присмотреться к этой даме.»
А вслух он сказал совсем другое:
– Вы упомянули, что в день смерти она приехала к вам с утра. Это был её запланированный визит? И о смерти Николая она узнала уже здесь?
– Нет, совсем не так, – Софья Платоновна подняла на Шидловского красные глаза и, обращаясь более к нему, а не к Шумилову, продолжала, – в тот день она должна была приехать только к обеду, потому что у нее с утра уроки в других домах. Но ее привёз ротмистр Бергер, он в то утро уже побывал у нас и знал о случившемся. Он и рассказал ей. Так что, когда она приехала, то уже все знала.
– А в котором часу это было?
– Она приехала что-то около полудня. Ее привез Бергер и сразу же уехал.
– Софья Платоновна, а как вообще прошло то утро? Хозяйка дома, вертя в руках носовой платок, прерывисто дыша, начала:
– Часов около 9-ти я зашла в николашину комнату. Там было очень тихо, я ещё удивилась, он просыпался обычно сам не позже 8-и утра. Раздвинула гардины и увидела, что он… неестественно так лежит…, рот приоткрыт, шея выгнута. Я тронула, а он уже почти остыл. Дальше я слабо помню…
– Я услышал крики, – продолжил полковник, – сбежались все, кроме Надежды, она уже в гимназию отправилась. Ну, послал за доктором, конечно. Вскоре за мной заехал ротмистр Бергер, он каждое утро сопровождает меня на службу. Но я на службу в тот день не поехал, отправил ротмистра с поручениями. А он по пути в штаб встретил на улице мадемуазель Мари и доставил её к нам. Вот, собственно, всё.
Осмотрев остальные комнаты этой большой квартиры, упаковав найденный подозрительный флакон и сонные капли г-жи Прознанской, а также содержимое химического шкафчика и бумаги покойного, составив подробный протокол осмотра и акт изъятия, Шумилов в сопровождении полицейского отправился в прокуратуру. Шидловский задержался еще на некоторое время, уединившись с полковником в кабинете.
Весь остаток дня ушёл у Шумилова на составление необходимых для назначния экспертизы бумаг. Химикаты и микстуры были отправлены в лабораторию Департамента полиции для исследования. Результаты можно было ждать не раннее послезавтрашнего дня.
Шидловский до конца дня на своём рабочем месте так и не появился.
Утомленный писаниной и мрачными впечатлениями долгого дня, Алексей Иванович, с удовольствием сбежал с работы чуть раньше положенного. Без четверти пять он уже шагал по многолюдным питерским улицам. Теплый ветер приятно обдувал лицо, качал пробивавшуюся на газонах робкую траву. «Ну, вот, – думал молодой сыщик, – морфий, кажется, нашли, а ответов не прибавилось. Но если окажется, что в склянке из-под микстуры действительно находится яд, то можно ли считать, что наливший его туда является убийцей? Кого юридически корректно следует считать преступником: наливающего яд в сосуд или подающего сосуд жертве? Если между ними сговор – все ясно, эти люди соучастники. Но если один использует другого втемную? Ничего-с, подождем, терпение и труд виновного до суда доведут…» – уговаривал сам себя Шумилов.
3
Апрель перевалил в свою последнюю треть и в городе чувствовалась долгожданная весна. По утрам лужи еще бывали иногда схвачены тонкими стекляшками льда, но зато днем все кричало о весне – влажный ветер с Невы нес привет из теплых краев, городская живность выбиралась погреться на солнышке, воробьи устраивали шумное неистовое вече на пока еще голых ветвях тополей в Александровском саду. Радостно и обновлённо смотрели на город уже старательно намытые окна зданий.
Хотелось за город, на природу, не было ни малейшего желания работать. Явившись утром в прокуратуру, Алексей Иванович через силу заставил себя углубиться в изучение писем и прочих бумаг, изъятых давеча во время обыска в доме Прознанских. Это были тетрадки с химическими формулами, большое количество невразумительных коротких писем и записок от приятелей, типа «Ты не забыл? Сегодня у Виневитинова, в 18» или «Николай, мы ждали тебя до последнего. Ищи нас у Маркова». Некоторые записки были на французском. Алексей Иванович обратил внимание, что содержание многих записок было совершенно вздорным и они явно были написаны под воздействием минуты. Покойный молодой человек был, видимо, большим формалистом, раз сохранял не содержащие ничего значительного записки.
Шумилов сразу отложил в сторону две тетрадки с химическими формулами, решив показать их Цизеку. Конечно, можно было назначить официальную экспертизу с привлечением специалистов-химиков (возможно, это еще придется сделать), но в начале расследования Шумилова интересовало суждение приватное, неофициальное, не поставленное в ограничительные рамки юридической нормы, возможно, даже в чем-то интуитивное. Честнейший немец был как раз тем человеком, который мог посмотреть записи Николая Прознанского глазами человека с одной стороны компетентного, а с другой – не скованного никакими официальными рамками.
Содержание архива, который попал в руки Шумилова, доказывало то, что в доказательстве особо и не нуждалось: у Николая были приятели, с которыми он встречался в неформальной, так сказать, обстановке. Молодые люди куда-то вместе ездили – обедали, посещали театр, катались в гости друг к другу, развлекались, одним словом. Обычное дело для студента из обеспеченной семьи. «Вообще-то не мешало бы поговорить со всеми этими юношами. Они наверняка смогли бы немало порассказать, что за человек был Николай Прознанский», – подумал Алексей Иванович.
Одно из писем, извлеченное из стопки бумаг, привлекло его внимание. Конверт слабо благоухал. «Не иначе от женщины», – догадался Шумилов. Это действительно было дамское письмо – но от зрелой женщины или юной девушки по почерку было и не понять. Шумилов заглянул в конверт, выудил из него сложенный втрое листок. Письмо было было совсем коротким, а принимая во внимание его содержание, даже оскорбительно-коротким:
«Уважаемый Николай!
Извините, не могу обратиться к Вам «дорогой». Для меня очевидно, что Вы не тот человек, с которым я смогу когда-либо взлететь на облака счастья и связать навеки свою жизнь. Мы слишком разные и не созданы друг для друга, но я уверена, что есть в мире сердце, способное биться в унисон с моим. Не сомневаюсь, что и вы ещё найдете свою любовь и будете счастливы.
Прощайте. Не ищите встреч со мной, это лишено смысла. В. П.»
Алексей Иванович задумался: «Как пошло пишут эти экзальтированные барышни – „взлететь на облака счастья“, „сердце, бьющееся в унисон“ – наверное, начиталась романтических бредней». Казалось очевидным, что это письмо от девушки, с которой у Николая завязывались было, но так и не сложились романтические отношения. Причем, по-видимому, это была девушка его круга, об этом свидетельствовал изящный летящий почерк, отсутствие грамматических ошибок, дорогая веленовая бумага и книжные обороты речи. Вряд ли у девушки, вынужденной зарабатывать на жизнь, было бы время увлекаться романами и столь бесцеремонно давать от ворот поворот такому ухажеру как покойный Николай Прознанский. Алексей Иванович посмотрел на дату под текстом – «март, 18-е.». Года не было, но сомнений быть не могло, что письмо написано весной 1878 г., т. е. именно этого года, поскольку аромат духов был все еще очень явственным. Что же это получалось? Нежные чувства Николая были отвергнуты ровно за месяц до смерти. Случайность?
Вадим Данилович Шидловский, помощник окружного прокурора Санкт-Петербургского судебного округа, прибыл на службу несколько позже обычного и притом в дурном расположении духа. Еще из-за двери Шумилов услышал его раздраженный басок, который ворчал: «Извозчики, шельмы, не смотрят, кого везут. Остановился, подлец, прямо посреди лужи. Ему не подъехать, видишь ли! Ну, да только со мной такой номер не проходит!» Ему что-то невнятно ответили и через секунду Шидловский уже заглядывал в кабинет, где сидели «его» четыре делопроизводителя, в их числе и Шумилов.
Довольно небрежно поздоровавшись общим кивком со всеми чиновниками, вскочившими при появлении начальника, Шидловский сразу обратился к Шумилову, что свидетельствовало о важности дела, которым занимался последний.
– Так-так, бумаги просматриваете? Помощь нужна? Успеваете? – шеф был верен себе, задавая вопросы, не подразумевавшие корректного ответа. В самом деле, как и куда можно было успеть, если никаких сроков назначено не было?
– Помощь не нужна, справляюсь, Вадим Данилович, – ответил Шумилов.
– А как с протоколом по обыску? Готов? Акты изъятия химикалий переписаны? Подшиты? (Шумилов едва успевал кивать) И когда будут результаты анализов лекарств и реактивов покойного?
– Подождём денька два-три, Вадим Данилович.
– Что так долго? Надо скорее, дело нерядовое…
Только вчера был разговор о том, сколько времени потребуется для исследования веществ из домашней лаборатории покойного, а теперь драгоценный шеф делает вид, будто всё позабыл. Может, и вправду позабыл?
– Там ведь целый шкаф этих склянок, – заметил Шумилов.
– А как насчет бумаг? – мысли шефа совершили полный круг и вернулись к той точке, с которой начинали свое движение.
– Обычные записки от приятелей, две тетрадки с химическими формулами – ничего особенного. Но… нашлось любопытное письмецо – барышня дает Николаю Прознанскому от ворот поворот. Датировано 18 марта, за месяц до смерти. Девушка была, видимо, его круга, хотя пока фамилия её нам неизвестна, – с этими словами Шумилов положил перед Шидловским надушенный листок из конверта.
Нацепив на переносицу пенсне, которое смотрелись нелепо, как нечто инородное на отёчном лице помощника окружного прокурора, Вадим Данилович сначала понюхал край листа и только затем пробежал глазами текст. Задумавшись на несколько секунд, он произнес:
– Эти «Гранжан» во французском магазине Дюрема на Литейном стоят пять рублей грамм. М-да, надо бы про девицу эту разузнать и друзей его аккуратно расспросить. Тут такое дело… – он неожиданно для Шумилова понизил голос и заговорил со столь свойственной ему серьезной почтительностью, как о чем-то чрезвычайном и значительном, – вчера Прознанский-старший такое мне порассказал!… В начале апреля в Канцелярию градоначальника пришло анонимное послание о том, что, якобы, Николай Прознанский состоит членом радикальной молодежной группы. Сами понимаете, Алексей Иванович, дело это нешуточное, особенно в свете недавних событий.
Шидловский пронзительно глянул в глаза Шумилову, словно оценивая, понимает ли тот нешутошность дела. Видимо, увиденное не вполне устроило помощника окружного прокурора, поскольку Шидловский поспешил объяснить:
– Я имею ввиду январский выстрел Засулич, ведь и времени прошло всего ничего! Может, при других обстоятельствах никто и внимания бы не обратил на анонимку, да только не теперь. Да и папаша юнца, полковник Прознанский – не последняя фигура нашей тайной полиции, это не следует упускать из вида. Шутка ли – он обеспечивает безопасность высочайших персон! А от этих радикалов всего можно ждать, у них же ничего святого! – голос Вадима Данилыча опустился до возмущенного шёпота, – Ну, сами понимаете, поднялся переполох, занялись официальной проверкой сообщения, а заодно и неофициальной, подняли на ноги агентов, осведомителей… Прознанского вызывал правитель Канцелярии градоначальника Сергей Фёдорович Христианович на, так сказать, доверительную беседу. Правда, никаких следов этой самой молодежной группы пока не обнаружено.
Шидловский опять взял паузу, испытующе глядя в глаза своего подчиненного.
– А теперь вот странная смерть мальчишки. Сначала анонимка, а меньше чем через три недели – отравление. Кто знает, может статься, умер он неспроста. Быть может, мы ещё увидим в этом деле руку этих самых радикалов-нигилистов, будь они неладны. Помните дело нечаевцев? Те ведь тоже своего дружка убили. И ведь ни за что ровным счетом. Якобы, за то, что выйти хотел из организации, хотя на самом деле не думал Иванов порывать с Нечаевым. Ох, смутные времена!… Короче, так, Алексей Иванович: поезжайте в Канцелярию градоначальника, испросите у них эту анонимку или копию. Хотя, пожалуй, лучше я сам поеду. Документ важный, вам могут не дать. Надо будет его к делу приобщать. Николай-то ведь не мог принять яд по неосторожности, уход за ним был аккуратный. Значит, был чей-то умысел, – Шидловский задумался, глядя в окно и произнес эти последние слова медленно, как бы рассуждая вслух, – Но, впрочем, дождемся результатов исследования содержимого его химического шкафа. И опять-таки, флакон с микстурой оказался наполнен непонятно чем…