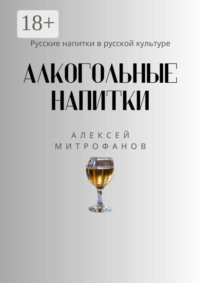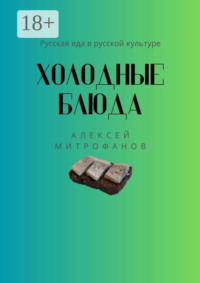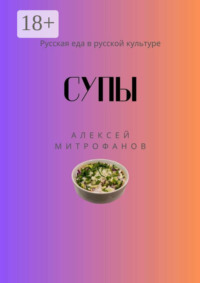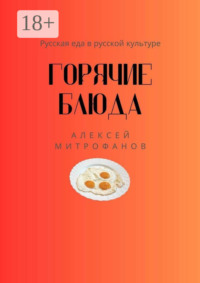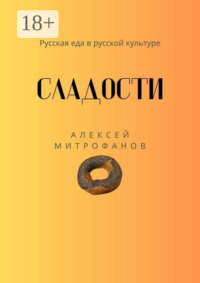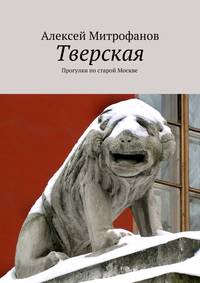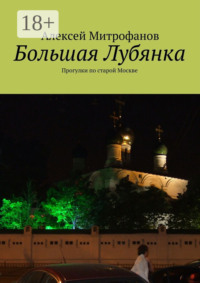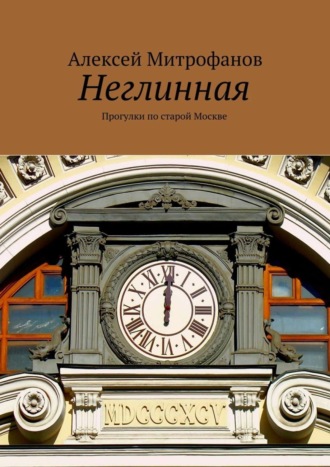
Полная версия
Неглинная. Прогулки по старой Москве
Вряд ли немецких посланников порадовало такое решение.
Но и жилые помещения оставались. Правда, и здесь возникла новая специфика. Анатолий Мариенгоф в «Романе без вранья» писал: «Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному: Боб) во 2-м Доме Советов (гостиница «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.
Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столом в вестибюле выдает пропуск красногвардеец с браунингом, отбирают пропуск два красноармейца. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке».
Тот же Мариенгоф – но только в «Циниках»: «Мой старший брат Сергей – большевик. Он живет в «Метрополе»; управляет водным транспортом (будучи археологом); ездит в шестиместном автомобиле, на вздувшихся, точно от водянки, шинах и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара.
У Сергея веселые синие глаза и по-ребячьи оттопыренные уши. Того гляди, он по-птичьи взмахнет ими, и голова с синими глазами полетит».
Хочется, конечно же, воскликнуть: «Был ли брат? А если был, то все-таки Сергей или Борис?» Ну, да не в этом суть.
Здесь же останавливался, приезжая на побывку, красный комиссар Петр Ильич Лукомский. Рюрик Ивнев в романе «Богема» писал: «Лукомский стоял у окна своего номера, выходившего на Театральную площадь, освещенный с ног до головы ясным весенним солнцем. Он внимательно слушал доклад помощника, сидевшего у круглого гостиничного стола, покрытого нелепой бархатной скатертью. Тут же, среди бумаг, карт и рассыпанных папирос, лежал белый колотый кусковой сахар, похожий на белый нетронутый снег. Он сверкал на солнце, как зеркало, в котором отражались солнечные лучи, как улыбающиеся самому себе глаза Лукомского, как мрамор умывальника. Солнце было каким-то особенным. Оно напоминало громадный пылающий желтый цветок, раскрывший все свои лепестки, все до последнего…
Вечерний воздух Москвы – крепкий, сочный – ударяет в окна «Метрополя» – громадного и широкого, будто чем-то удивленного. Чем? Может быть, тем, что он весь как-то потускнел, словно с него сошел лак? К широкому подъезду не подкатывают нарядные автомобили, не гремит легкомысленная музыка в ресторане. Вместо нее – звон оловянных ложек и мисок, торопливый скрип сапог, запах кожи, пота, лохматых папах. Там теперь «первая советская столовая». В широком вестибюле часовые – «Товарищ, ваш пропуск! – точно в крепости. И комендант вооружен до зубов».
* * *
Татьяна Окуневская, известная актриса, вспоминала: «Я работаю курьером в Наркомпросе… В мои обязанности входит разносить бумаги и документы по Комиссариату, и иногда отвозить их в гостиницу «Метрополь», где живут все вожди. Я растерялась, когда приехала туда в первый раз: старинная дореволюционная шикарная гостиница с коврами, хрусталем, номера из нескольких комнат. Я замерла у массивной двери, не решаясь позвонить, я показалась себе такой букашкой в своих тапочках и майке.
На этот раз хозяин пакет из рук не взял, а повел меня в кабинет, усадил, распечатал пакет и стал его долго читать.
– Ты, наверное, устала, голодная… Перекуси, у меня все стоит на столе!
В его голосе что-то противное, и сам он старый, тоже противный. Он обнял меня за плечи и подвел к столу, как в сказке заставленному всем самым-самым вкусным. Ударило в голову воспоминание, как я с подругой пошла слушать к ее знакомому, взрослому мужчине, пластинки, он послал подругу за чем-то в магазин, а на меня набросился… Но это была коммунальная квартира, я начала кричать, он меня выгнал, и я, рыдая, ждала подругу у подъезда. Здесь кабинет от коридора через две комнаты, кричи, не кричи, никто не услышит! Я сбросила с плеч его руку.
– Я таких яств никогда не ела! Мне от них будет плохо!
Он опешил.
Что же он ожидал, что я начну все хватать со стола, брошусь ему на шею?! Быстро, гордо я пошла к двери. Сердце выпрыгивает. До двери уже не много. Около уха его сопение… А если сейчас собьет с ног… А если дверь заперта… Хватаюсь за ручку. Заперта.
– Откройте дверь!
Он повернул ключ, и я почти вывалилась в коридор».
Да уж, не стоит обустраивать госучреждения в отелях. Ничего хорошего из того не выйдет, только лишь соблазн.
Впрочем, пройдет совсем немного времени, и Окуневская станет бывать все в том же «Метрополе», но уже совершенно в другом качестве: «Как снег на голову прилет маршала Тито… Банкет со славянской широтой, несметным количеством приглашенных. Маршал удивительно интересен, в мундире, который ему очень идет, стоит в стороне среди приглашенных, низко мне поклонился. Принимает гостей посол Попович, тот самый, который пригласил меня в Югославию и сидел на обеде у маршала по правую сторону от меня. Он задержал мою руку, заглянул в глаза, как бы зная что-то важное, тайное.
Народу! Говор, смех, запах тонких духов и действительно роскошный «Метрополь»: огромное пространство, в котором музыка звенит и разливается; где-то в небе стеклянный потолок, сияющий паркет, в центре знаменитый фонтан, искрящийся блестками – знаменит он тем, что у него низкий барьер, и частенько, сильно набравшись, под влиянием Бахуса, в него падают джентльмены и даже дамы, зрелище веселое, шумное, когда под хохот зала ошалевшего пловца в вечернем туалете вылавливают и вытаскивают на паркет; во время танцев гаснет свет и включается огромный серебристый шар, который, крутясь, все превращает в блестки… Свет погас, все заискрилось, затрепетало от звуков музыки! «Я люблю тебя, Вена»… Через весь зал прямо ко мне идет Тито. Зал замер, перед ним расступаются, он обнял меня, и мы поплыли в вальсе, я в своем, цвета крови, панбархатном платье, он в мундире с золотом, пожираемые тысячью глаз. Я не могла себе представить, что маршал может так блистательно танцевать».
Речь, в обоих эпизодах, идет, по большому счету, об одном и том же. Но какова, однако, разница!
* * *
А. В. Чаянов прочил «Метрополю» скорое полнейшее исчезновение. Он писал в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии»: «Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. «Метрополя» не было. На его месте был разбит сквер и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица.
Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков… Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу у наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не смог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки:
– Памятник деятелям великой революции»
Не сбылось. А в скором времени жизнь начала налаживаться, и «Метрополь» вновь сделался отелем, а не синтетическим учреждением.
* * *
Разумеется, гостиница пользовалась популярностью среди тусовки околобогемной – и до революции, и после. Михаил Булгаков в «Театральном романе» замечал: «Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они и не актеры, они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству, по имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельэтаже, в „Метрополе“ они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами».
А Анатолий Рыбаков в «Детях Арбата» привел, похоже, типовую сцену посещения здешнего ресторана соответствующей публикой: «Очередь у входа в ресторан расступилась, швейцар в форме с галунами открыл перед ними дверь, возник метрдотель в черном костюме, в переполненном зале сразу нашелся свободный столик, официант расставил приборы. Со швейцаром, гардеробщиком, метрдотелем, официантом разговаривал Виталий… Следя за тем, как официант расставляет приборы, Виталий объяснил Варе и Эрику, что Сибилла Чен, дочь китайского министра иностранных дел, знаменитая танцовщица, начинает завтра гастроли в Москве, продолжит их в Ленинграде, затем отправится в турне по Европе и Соединенным Штатам. Он назвал еще несколько артистов. Главный съезд через полчаса, когда кончатся спектакли. С одиннадцати начнет играть теа-джаз Утесова, без самого Утесова, он в ресторанах не поет.
Многие девушки были с иностранцами. Варя знала, они дарят им модные тряпки, катают на автомобилях, женятся на них и увозят за границу. Варю иностранцы не интересовали, но этот ресторан, фонтан и музыка, знаменитости кругом – не к тому ли стремилась она из своей тусклой коммунальной жизни?
Накрахмаленные скатерти и салфетки, сверкание люстр, серебро, хрусталь… «Метрополь», «Савой», «Националь», «Гранд-отель»… Коренная москвичка, она только слышала эти названия, теперь наступил ее час. Девочка с арбатского двора, цепкая, наблюдательная, она все заметила – и как смотрят на нее мужчины, и как скользят мимо взглядом женщины. Не принимают всерьез потому, что плохо одета. Ничего, они по-другому посмотрят на нее, когда она придет сюда, одетая пошикарнее многих. Каким способом удастся ей добыть наряды, Варя не задумывалась Она не будет продаваться иностранцам, она не проститутка. И не все здесь такие. Вон через столик компания – одна бутылка на всех, денег нет, пришли потанцевать».
Даже, казалось бы, обыкновенный туалет был в «Метрополе» совершенно бесподобен: «Женщины мазали губы, пудрились, причесывались – уборная походила на филиал парикмахерской. Какая-то женщина пришивала пуговку на кушак. Иголки и нитки были у служительницы, раздававшей салфетки, ей бросали мелочь».
Правда, в скором времени картина изменилась. Тот же Рыбаков писал во второй книге трилогии («Страх»): «Это был уже не тот «Метрополь», что раньше. Так же сверкала хрустальная люстра, и стояли горкой на столиках накрахмаленные салфетки, так же притушили свет, когда начал играть оркестр и разноцветные прожектора осветили фонтан и танцующие вокруг него пары. Тот же величавый метрдотель встречал гостей, и усаживали их за столики те же предупредительные официанты. Но публика не та. Солидные дяди из начальства, некоторые в гимнастерках, иные в пиджачных парах. В углу несколько сдвоенных, даже строенных столов – какие-то кавказцы давали банкет. Иностранцев мало, и те – в окружении официальных лиц, видно, пришли перекусить после деловых переговоров. Ни шикарных дам в роскошных туалетах, ни таких красоток, как… Шереметьева. Зато тянули винцо проститутки, одетые под обыкновенных советских служащих, были и девочки, действительно, служащие, их обхаживали командированные в вышитых рубашках, сапогах. В сапогах теперь сюда пускали, так и танцевали в сапогах.
На столах уже стояли вино и водка. Мирон заказал рыбное ассорти, недорогие горячие блюда, мороженое. В общем, по тому же классу, что и раньше: молодые люди пришли потанцевать, мало закажут, но хорошо заплатят официанту. Это было из прошлого».
И все равно «Метрополь» продолжал держать первенство среди московских отелей. Недаром Валентин Катаев поместил сюда «высший тип женщины» – «небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголенной спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, – на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, осыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа. Она неприкосновенна и недоступна для нашего брата. Ее можно видеть в „Метрополе“ вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна, где при свете разноцветных электрических лампочек плавают как бы написанные Матиссом золотые рыбки, плещет небольшой фонтанчик. Богиня, сошедшая с неба на землю лишь для того, чтобы люди не забывали о существовании мимолетных видений и гениев чистой красоты».
А Сергей Есенин приводил сюда красивых девушек. Одна из них писала в мемуарах: «Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры – все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой и неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком… Видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят».
Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.
А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда…» и «Я красивых таких не видел…«».
В этом отдельно взятом случае речь об обольщении вовсе не шла. Автор воспоминаний – родная сестра поэта, Александра Александровна Есенина.
* * *
Естественно, что москвичей сюда влекла именно атмосфера «сладкой жизни», до недавних пор Москве несвойственная и, разумеется, возможность побывать в обществе иностранцев. Ведь уже в то время отель относился «интуристовскому» ведомству. Его реклама соблазняла беззастенчиво: «Отель „Метрополь“. Заново отремонтированы и обставлены комфортабельно номера. Парикмахерские мужские и дамские. Свои авто. Первоклассный ресторан. Завтраки, обеды и ужины по пониженным ценам. Прием заказов на банкеты. По вечерам „джаз-оркестр“. Кафе, бар и бильярды».
Разве что «пониженные цены» смотрятся несколько особняком.
Кстати, большая часть иностранцев была шокирована здешним рестораном. И отнюдь не только лишь его роскошеством. Американский писатель Джон Стейнбек, посетивший СССР в 1947 году, писал: «Коммерческий ресторан в «Метрополе» превосходный. Посреди зала высотой этажа в три – большой фонтан. Здесь же танцевальная площадка и возвышение для оркестра. Русские офицеры со своими дамами, а также гражданские с доходами много выше среднего танцуют вокруг фонтана по всем правилам этикета.
Оркестр, кстати, очень громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам когда-либо приходилось слышать. Барабанщик, явно не лучший последователь Крупа, в экстазе доводил себя до исступления и жонглировал палочками. Кларнетист, судя по всему, слышал записи Бенни Гудмэна, поэтому время от времени его игра смутно напоминала трио Гудмэна. Один из пианистов был заядлым любителем буги-вуги, и играл он, между прочим, с большим мастерством и энтузиазмом.
На ужин подали 400 граммов водки, большую салатницу черной икры, капустный суп, бифштекс с жареным картофелем, сыр и две бутылки вина. И стоило это около ста десяти долларов на пятерых, один доллар – двенадцать рублей, если считать по курсу посольства. А на то, чтобы обслужить нас, ушло два с половиной часа, что нас сильно удивило, но мы убедились, что в русских ресторанах это неизбежно».
Впрочем, сам отель писателю понравился: «Гостиница „Метрополь“ была действительно превосходной, с мраморными лестницами, красными коврами и большим позолоченным лифтом, который иногда работал. А за стойкой находилась женщина, которая говорила по-английски».
Но поселиться в «Метрополе» Стейнбеку, увы, не удалось – номер по чьей-то халатности не забронировали, а свободных комнат, разумеется, не оказалось.
* * *
Зато здесь в 1937 году жил другой классик – Александр Иванович Куприн. Он только что вернулся в СССР из эмиграции. Возвращение было безрадостным.
Еще за границей Куприн впал в маразм. Писал всякую ерунду. Никто ее, естественно, публиковать не рвался.
Куприн завел себе кота. Назвал его Ю-ю. Александр Иванович писал, а кот Ю-ю лежал рядышком на столе и смотрел на своего хозяина.
Время от времени писатель говорил своим знакомым:
– Презирает меня этот кот. Презирает. А за что презирает – понять не могу. Наверное, за то, что я неудачник.
Николай Телешов писал: «Уехал он если и не очень молодым, то очень крепким и сильным физически, почти атлетом, а вернулся изможденным, потерявшим память, бессильным и безвольным инвалидом. Я был у него в гостинице „Метрополь“ дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн – человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать, – это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил. Ушел я от него с невеселым чувством: было жаль сильного и яркого писателя, каким он уже перестал быть».
Навещал Куприна и Валентин Катаев: «Раньше я не был знаком с Куприным. Я пришел к нему в гостиницу «Метрополь» вскоре после его возвращения на Родину. Я увидел маленького старичка в очках с увеличительными стеклами, в котором не без труда узнал Куприна, известного по фотографиям и портретам. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой, трогательной улыбкой. Из-за толстых стекол очков смотрели очень внимательные глаза больного человека, силящегося проникнуть в суть окружающего. Это же выражение напряженного, доброжелательного удивления не покидало лицо Куприна все время, пока мы сидели на открытой веранде «Метрополя», а потом гуляли по центральным улицам Москвы – советской Москвы – такой нарядной, веселой и деловитой в этот яркий осенний день, полный солнца и цветов.
С жадным любопытством всматривался Куприн в черты нового мира, окружавшего его. Медленно переступая ногами и держась за мой рукав, Александр Иванович то и дело останавливался, осматривался и шел дальше с мягкой улыбкой на лице, как бы одновременно и встречаясь и навеки прощаясь со своей утраченной и вновь обретенной Родиной».
Умер Куприн на следующий год, от рака языка.
* * *
А еще был моден здешний, пригостиничный кинотеатр. Он назывался так же – «Метрополь». Юрий Трифонов упоминал его в романе «Студенты»: «Возле кино „Метрополь“ царило обычное вечернее оживление. В пышном сиянии голубых, малиновых, ослепительно-желтых огней смотрели с рекламных щитов усталые от электрического света, огромные и плоские лица киноактеров. Они были раскрашены в фантастические цвета: одна половина лица синяя, другая – апельсиново-золотая, зубы почему-то зеленые».
Что поделать – таков он, советский гламур.
* * *
В 1960-е в «Метрополе» произошел курьез. Главным героем его стала Анна Ахматова. Надежда Мандельштам вспоминала: «Она приехала в Москву на съезд писателей. (Зачем она это сделала? Чтобы ощутить свою реальность на этом нереальном съезде? Не пойму.) Ей отвели комнату в „Метрополе“, где каждый вечер собиралась толпа друзей. Раз, когда я там была, пришла скромная женщина с Кавказа, тоже участница съезда и тоже Ахматова. Она специально явилась, чтобы извиниться: ей было совестно называться Ахматовой, да еще писать стихи (кажется, осетинские), но рука не поднялась отказаться от собственной фамилии. Ахматова весело разговаривала с Ахматовой и старательно „подавала первую помощь“ (домашний синоним глагола „утешать“). Две Ахматовы остались довольны друг другом. А после ухода одной Ахматовой другая горестно заявила: „А все-таки она – настоящая Ахматова, а я – нет…“»
И то – фамилия Ахматова (у той Ахматовой, что поизвестнее) в действительности псевдоним, притом не слишком-то любимый.
* * *
Ближе к восьмидесятым «Метрополь» несколько опростился. Дошло до того, что открылась, казалось бы, самая главная тайна – рецепты здешних фирменных блюд. Они были опубликованы в одной брошюрке, на потребу обывательницам-домохозяйкам. Правда, продукты были, мягко говоря, не обывательские. Вот, например, рецепт салата «Метрополь»: «Курицу, куропатку, вареный картофель, соленый огурец мелко порежьте, посолите, поперчите, положите соус и часть майонеза и перемешайте. Готовый салат выложите горкой в салатницу, а сверху полейте майонезом. Принарядите дольками фруктов, яйцом и икрой».
В то время «дольки фруктов» были, мягко говоря, проблемой. А уж о куропатках вообще не думали.
Зато котлета «Метрополь» – куда демократичнее: «Снимите кожу с филе курицы, выньте все косточки и сухожилия, а основную косточку оставьте, затем разверните филе на две части и отбейте тяпкой. Приготовьте паштет. Обжарьте в масле нарезанную кусочками печень курицы с луком, морковью и шпиком, пропустите вместе с растительным маслом через мясорубку, после чего паштет готов. На середину приготовленного филе положите паштет, сверните филе пополам, придайте ему форму котлеты, смочите в сыром яйце, обваляйте в белых сухарях. Котлету обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. На гарнир подайте жареный картофель, зеленый горошек, морковь в молочном соусе, чернослив или маринованные фрукты. Выбор гарнира зависит от вашего вкуса».
Здесь, по крайней мере, ингредиенты более-менее доступные – курица, морковь. Правда, сам процесс несколько трудоемок, ну да этим хозяек, умеющих готовить черную икру из килек, не запугать. А гарнир – по вкусу. Мало ли, может быть, обыватель больше любит макароны, а вовсе не морковь в молочном соусе и уж, тем более, не маринованные фрукты.
Вполне обывательским оказался и бифштекс «Метрополь». Готовый бифштекс, на который можно было положить кусочек жареной печени, рекомендовалось подавать с крокетами и острым соусом.
Нечто подобное московские хозяйки и делали на своих тесных кухоньках. Разве что печень на мясо не клали. Печень в то время большей частью покупали для котов.
А уж пломбир «Метрополь» и вовсе обескураживает своей скромностью: «Положите сливочный пломбир в блюдце или вазочку, полейте сверху шоколадным соусом (сгущенное молоко перемешайте с какао), посыпьте миндалем, сверху положите кусочек бисквита или печенье».
Подобного добра не только на московских кухнях, а и в буфетах привокзальных было предостаточно.
Словом, кухня «Метрополя» оказалась не особенно деликатесной. Разве что куропатка несколько спасала ситуацию.
* * *
Приблизительно тогда же вышел справочник-путеводитель по гостиницам Москвы. Было там и описание «Метрополя», не слишком волнующее: « К услугам гостей: стирка и глажение белья, срочная химчистка одежды, срочный мелкий ремонт одежды, гладильные комнаты, срочный ремонт часов.
По желанию гости могут получить на этаже чай, кофе, печенье, вафли, минеральную воду. Из номера можно заказать телефонный разговор с городами Советского Союза и других стран.
Для иностранных гостей имеются билеты на культурно-зрелищные мероприятия, различные экскурсии, дегустации блюд, для деловых поездок предоставляется по желанию легковой транспорт.
Здесь можно заказать билеты на поезд, самолет, теплоход… В гостинице работают: почта… парикмахерская – мужской и дамский салоны, косметический кабинет… портновская… киоск по продаже сувениров… магазин «Березка»… Ресторан «Метрополь» при гостинице состоит из четырех залов… В барах установлена высококачественная радиоаппаратура, магнитофоны с современными записями. Во всех залах играют эстрадные оркестры».
В принципе, в том описании есть информация о некой «дольче вита» – о четырехкомнатных номерах, рассчитанных всего лишь на одного-двух человек, о том, что в паре номеров имеются старинные фортепиано и о валютном баре под названием «Ночной». Но подавалось все это как-то неаппетитно. Складывалось впечатление, что вафли у дежурной все-таки гораздо круче, чем четырехкомнатный президентский люкс.
* * *
И все равно «Метрополь» почитался как лучший московский отель. Здесь побывали многие мировые знаменитости – Марчелло Мастрояни, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Майкл Джексон, который, сидя в ресторане и наслаждаясь игрой пианиста, растрогался настолько, что сам сел за рояль, и даже руководитель восточногерманской разведки Маркус Вольф – ему почему-то особенно нравился судак «орли» в ресторане гостиницы. И именно здесь познакомились два выдающихся музыканта планеты – Галина Вишневская и Мстислав Ростропович.
Разве что вся эта звездная жизнь недоступна простым обывателям. Старой же интеллигенции осталось только вспоминать о временах, давно и безвозвратно испарившихся. Юрий Нагибин писал в книге «Всполошный звон»: «Старые москвичи очень любили ресторан «Метрополь». Не могу понять, почему казался таким уютным огромный, с высоченным потолком зал. Посредине весело журчал фонтан, водяные струи осыпались в бассейн, где плавали рыбы – караси, карпы, сазаны, судачки. Вы могли выбрать рыбу и заказать ее в сметане, фри или запеченную в картофеле. Я никогда этого не делал, хотя частенько ужинал в «Метрополе»: не могу есть знакомых. На большой эстраде играл отличный джаз с сильными солистами, очень достойным репертуаром. Танцевали вокруг бассейна, освещение менялось – рубиновое, синее, серебристое, оранжевое, – соответственно окрашивались вода в садке и струи фонтана. Это было красиво. Сюда частенько захаживали писатели, режиссеры, артисты – московская интеллигенция. Поразительно, как ныне дисквалифицировалась ресторанная жизнь. Теперь в ресторан ходят лишь командировочные, фарцовщики, рыночные торговцы да военные не старше подполковника.