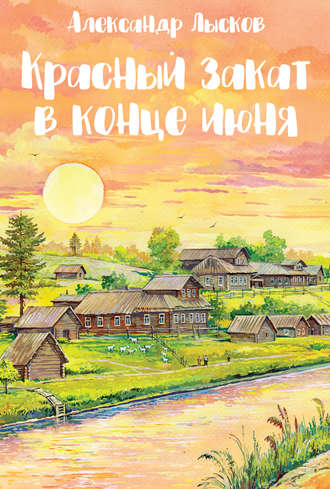
Полная версия
Красный закат в конце июня
В онемении стягивает мужик шапку с головы и накладывает кресты на лоб.
Укоры усиливаются. «А на птицу небесную взгляни – не сеет, не жнёт.
Отец Небесный питает её!..»
Мужику хоть падай на колени и проси прощения за неразумность.
Напор не ослабевает.
«Не заботься, что есть, что пить, во что одеться. Ищи прежде Царства Божия, и это всё приложится тебе…»
«Уж не поворотить ли, в самом деле, домой», – думает мужик.
Но тут, на его счастье, знаком Небес камнем падает к его ногам замерзшая на лету райская птица с увядшей лилией в клюве.
Облачко пороши поднимается вокруг падали.
«Вот оно как у нас выходит с птицей-то да с лилией», – думает мужик, напяливая шапку.
Вдруг как-то невольно сходится у него в голове новозаветное в кольцо с ветхозаветным.
Он вожжой по крутому боку коня хлоп:
– Н-но, Серко!
Едет своей дорогой.
12…В отсутствии врага городская стража своих мытарила.
Вместо зыбкого образа отца Петра, с его расслабляющими проповедями, у ворот Важского городка встал перед Галасием во плоти истинной преградой ходячий тулуп – краснорожий привратник с копьём под мышкой.
Мыто ему подавай, «проезжее».
Геласий к трём «деньгам» добавил стражнику две за присмотр товара.
Поводья намотал на деревянную спицу в бревенчатой стене. Остатки сена вывалил под морду снурово якутёнка. Укрыл трудягу дерюгой.
А ухо Геласия под шапкой давно уже было навострено в сторону базарной площади.
– Шумят христиане. Небось, все в барыше?
– Нажитки жидки, – ответил стражник. – Прибытки не прытки.
– Ну, так ведь лежачий товар всё равно не прокормит.
– Оно так. Только на торгу деньга проказлива.
Пообдёрнулся мужик после дальней дороги, пообчистился. Всё на нём ладно: и шапка бобровая, и кушак тканый с кисточками.
Боевито повёл плечами. Помял лицо от бровей до бороды, как бы вылепил на нём новое, подходящее для дел выражение.
И направил лапти в сторону торжища.[77]
13Святки. Начинай грешить сначала.
Даже позорный столб на базарной площади Важского городка нынче был облит льдом, и на самом верху висят бублики хомутом в награду ловкачу.
Слышится говор, смех, перекличка носячих.
– Сбитень горячий – пьёт приказной и подъячий.
– Патока с имбирём. Варил дядя Семён. Арина хвалила. Дядя Елизар пальчики облизал…
Ехал Геласий по лесам один как перст, в страхах и сомнениях. А здесь на торжище среди народа враз правдой и смелостью проникся. У самого присловье с языка срывается:
– Кто в лён одет, доживёт до ста лет!..
14Не одна сотня таких как он одиночек с Шеньги и Паденьги, с Тарни и Леди, а то и из самих Холмогор составляли рождественские торги в Важском городке 1526 года.
Отдельно сидели кожевники, вощары, салотопы, железняки.
У самого воеводского двора на виду – а «насиженное место – полпочина» – расположились меховые лавки со своим зазывом и толкованием.
– Бобра на спину – лисицу на подклад!
– Медведь быка дерёт. И тот ревёт, и другой ревёт. Кто кого дерёт – сам чёрт не поймёт! Из одной шкуры – и шуба тебе, и воротник!
– А вот белки – не для тепла, так для красной отделки!
Тошнотворной сладостью несло от дегтярного стана: горками были сложены здесь двухведёрные бочонки со смолой.
Слюдяной привоз играл на солнце радужными разводами.
Железные прутья были воткнуты в снег; казалось, сама земля ощетинилась. А полосы для ошиновки колёс только тронь – закачаются и зазвенят.
Мороженая рыба в кучах, свежая – и с душком.
Слепки воска на дерюге словно пушечные ядра.
Соль, птица, сало… Товар из дальних краёв, дивный, дорогой…
А на окраине – изделия свойские. Расторопные мужики из ближних деревень приволокли на лошадках, а то и на чунках, да могли и на загорбках, лапти, горшки, муку, шерсть, лён.
Оглобли у саней задраны вверх, чтобы не мешали движению народа. На концах оглобель – образцы товара (реклама!), далеко видать.
15Место для себя Геласий высмотрел подле кожевников. Оставалось заплатить «явленое», получить ярлык и перетащить товар на торжище. У мытного двора он расспросил хмельных мужиков, где найти Мишку – «не беру лишку».
– Известно где. В корчме, – пояснили мужики и принялись дальше толковать про убытки. Дескать, чем так торговать, так лучше воровать!..
Пришлось ломать порядок – с питейного дома Геласий никогда дело не начинал.
В большой избе стоял полумрак и холодный, кислый пар.
Мишка – «не беру лишка» сидел среди купцов – кудлатый мужик в драном кафтане и с повязанным на шее ярким шёлковым платком. Этот род шарфа и сапоги выдавали в нём человека своеобычного. И не земледелец, и не купец. Нравом скоморох. Однако без дудки и бубенца.
Шут базарный.
Отбился он от свиты какого-то боярина, скорее всего, изгнан был за лукавство или корысть.
С тёмными денежками ещё совсем молодым объявился Мишка в Важском городке. Домик купил. Женился. Здесь супругу схоронил. Постарел. Когда-то учил грамоте воеводских детей.
А теперь кулачил[78] на базаре.
– Хоть в нитку избожись, – не поверю! – перечил Мишке дородный купец и стучал по столу тяжёлой ладонью.
– При колокольном звоне под присягу пойду! – крестился Мишка.
– В напраске побожиться – чёрта лизнуть!
– Лопни моя утроба. Чтобы мне не пить винца до смертного конца!
Геласий приближался к нему со спины, по полшага, с покашливанием.
16Знакомство с Мишкой свёл Геласий год назад.
Выручил за крашенину и решил купить атласу за три полтины для приманки баб на льнища.
Подвернулся этот Мишка, соблазнил скидкой на двадцать гривен, подвёл к нужному человеку. По цене выходило атласу четыре аршина. А когда Геласий дома раскатал, перемерил – едва три натянул.
Вот как ловко прибаутками своими, махами рук, поцелуями да объятиями умел Мишка ослепить и лишить рассудка.
Теперь, думал Геласий, за мзду этот бывалый человек подсобит и ему выгодно отторговаться.
– Поклон вам, Михаил Евграфыч!
– А! Князь Пуйский опять к нам пожаловал!
– С вами, Михаил Евграфович, словом бы перемолвиться.
– На моих словах что на санях. Давай, покатили.
Они уединились в сенях. Геласий изложил свой замысел.
Сошлись на десяти гривнах в пользу Мишки.
С той минуты «князь Пуйский» горя не знал.
В первый же день с Мишкиной подачи было продано семь аршин червлёного полотна (крашено в отваре сушёных ягод черемухи) и пять коричневого (в коре сосны).
На ночь тюки перенесли к Мишке домой.
Тут под окнами и Серко стал ночевать.
17Дом у Мишки был в три окошка.
Дочка его хозяйничала и жила за печкой в шомуше, как старая бабка.
Соседи готовы были пожалеть сироту.
Гордячка избегала внимания.
Тогда начали бабы пристальнее всматриваться в её обличье.
Вскоре сошлись на том, что «у нас таких нет». Лицом не бела. И «глазишша обоянь» – в приблуду отца.
…Статная девушка на выданье этими глазищами смело глянула на Геласия, и его словно тёплым ветерком опахнуло. Сияние вокруг неё увиделось и ночью не угасло.
Зажмуривал Геласий глаза, и девушка как бы опять клонилась к нему и потчевала квасом.
Каждый вечер теперь Геласий нёс ей подарок с базара. Чуманчик мёду, зёрнышко речного жемчуга, оловянную дробницу, ленточку позумента. Она не отказывалась. Звали её Степанида.
18По торжищу разнеслось: Мишка – «не беру лишка» мёртвый лежит под городской стеной.
– Опился брагой, наведённой в медном нелужёном ведре, – возвестил судебный дьяк на следствии.
Народ твёрдо стоял на том, что отравили знатного кулака за долги и обманы.
Одной из хитростей Мишки было умение «удержать деньгу на повод», то есть в момент расчёта, передачи монет, удержать несколько, не доплатить, как бы продолжить торг даже и после того, когда ударили по рукам.
А купец уже товар учёл и размягчён продажей и не вступает в спор, прощает…
Или не прощает!
19Геласий один, без Мишки, доторговывал.
Не жильцом доживал с его дочерью Степанидой – нелюдимкой – под одной крышей. И не хозяином. Но – старшим братцем.
Потом как-то в морозный крещенский вечерок поднёс девке серебряное колечко и к сироте посватался.
Скоро заколотили они домик в Важском городке и поехали венчаться в Сулгар.
20Кованый Серко цокал по наледям, порхал в пороше метёлками ног.
Дорога узким жёлобом вилась в лесах. Не в степи – не заблудишься.
В корзине, на сене, в меховом коконе вёз Геласий невесту. Не смел рядом лечь. От самого дома, будто пристяжной, вышагивал сбоку пошевень.
Матушку хвалил – заместо дочки будет ей Степанида.
Обещал выгородить в избе светлицу.
А на свадьбу задумано, дескать, у него ровнины наткать. Одеть невесту в батист. Украсить паволоками.
Крещенские дни коротки. Ночевать свернули в молодой ельник у речки Паденьги.
Степанида взялась коня поить. Подвернула шубу и будто на санках скатилась к промоине. Сверху ей вожжи кинул Геласий, чтобы не расплескала на подъёме.
Для неё он налил воды в наскоро свёрнутый из бересты кулёчек.
Девушка едва губы обмочила.
Конь пил с опаской – зубы ломило.
А Геласий остатки из бадьи одним махом вылил в своё разгоряченное нутро и принялся бегать по кругу, утаптывать снег.
Тоже вкруговую топориком прошёлся.
Навалил молодняка.
Наказал Степаниде, чтобы шкурами застилала лежанку, а сам убрёл в лес за сухостоем.
Девушка одна осталась в морозном вечере среди первобытных лесов. На двадцать вёрст кругом ни души. А совсем не страшно.
Сердце полнилось молодой бабьей отвагой.
В цветастых пимах, обвязанная платком под мышками глядела на первую звезду.
Вдруг посыпалась сверху какая-то пыль. Чуть глаза не запорошила шелуха от еловых зёрнышек.
Над ней клёст с красной грудью висел на ветке книзу головой словно заморский попка.
Клёст – клюв внахлёст – расковыривал шишку.
И гнездо этой дивной птицы разглядела Степанида между веток.
И писк птенцов расслышала.
В январские морозы зачата жизнь и выкормлены детки.
21Сухостоины Геласий уложил на снегу квадратом, словно окладные брёвна для строения. Натолкал под них сена и хвороста.
Зажёг.
В венце огня под шкурами близко легли они друг к другу.
И наутро Степанида проснулась уже просто Стешей.
…Дальше ехали с тайной в душе. С изумлением.
По-новому учились глядеть друг на друга. И разговор не сразу склеили. Будто только что познакомились.
Теперь Геласий часто подсаживался на край кошевки. Притискивал меховой куль. Находил в нём губами холодный нос, алую щеку.
Шептал какие-то глупости, указывая на белок, – гляди, мол, тоже парами скачут.
А вон на полянке зайцы дерутся. Жениховствуют и они.
Кажется, смерть кругом белая, ледяная. А кому надо, тем хватает собственного утробного тепла для жизни и её восполнения…
Потом, проезжая здесь на ярмарку, Геласий всякий раз вспоминал ту крещенскую ночку на обочине дороги, треск огня, жар плодородного единения.
И думалось ему всякий раз: «Здесь Матрёна зачата».
22Печь – и гревь, и свет, и железу плавь.
С утра старшуха Енька-Енех кланялась печи.
Вечером Геласий окунул своё лицо в её жгучий свет.
Покупной железный прут в руках поворачивал на огне, напитывал малиновым.
Слышно было, как от пережогу пищали угли на поду.
В «виднети», за спиной деловитого хозяина, стучала набилка в кроснах матери. Урчало веретено привозной молодайки.
Наученная покойной свекровью, Енька пела-поскуливала:
Девушка полотно ткала,Красная широко брала.На полотне – золоты кружки,На беличке – сизы голуби.И вдруг сорвалась на угорское, будто перетолмачила:
Ен фехер – кек аламб.Ен алакси – кек ниул.А потом опять по-русски:
Тут Иван ступил в избу —Девушка испужалася.Золоты кружки на тканье смешалися,Сизы голуби разлетелися,Заюшки разбежалися.…Ой, девушка, не скупись,За песенку расплатись…(Ой, леня, нем шугори,Утан елек физетэ.)Енька-Енех хохотнула на последней строчке, ногой притопнула. Подзадорила Стешу.
Не зацепило пришлую. Продолжилось деловитое жужжанье деревянного волчка в её руке.
Так бы Еньке одной и веселить вечерю, кабы Геласий вдруг примерочно не тюкнул молотком по наковальне – доспело ли железо для ковки?
Дзинь!
И ударил молоток дробью, в пляс пошёл, бубенчиками рассыпался по углам избы.
Частя, слился молотковый стук в струнные звуки.
Обрушился громом одиночного битья.
В этой звени неслышно щёлкнуло о стену отброшенное веретено Стеши, и прялка её пала на пол.

Полетели к дверям лапоточки. В одних липтах девушка выскользнула к припечью.
Под кузнечные перезвоны Геласия всплеснула руками, выгнулась, тряхнула плечами. Да так, что локти стояли на месте, и муха бы с них не слетела.
У Еньки от дикого изумления перед выходкой молодайки челнок в стане нырнул поперек бёрда и притужальник дал трещину.
Раскалённый прут у Геласия начал остывать – молоток теперь вхолостую лупил.
Кузнец играл для Стеши.
А она едва не до матицы подпрыгивала и юбку раскидывала вширь по бокам. Трескуче била над головой в ладоши.
Наконец упала на колени и опять нашла локтями в воздухе какую-то ею одной знаемую прочную опору, мелкую зыбь пустила в плечи и грудь.
Тут мать к уху сына сунулась, горячо шепнула:
– Лася! Да не дерома[79] ли она у тебя?
А он всё сильнее выхаживал молотком по наковальне.
И в этих стуках в пятидесятилетней Еньке недолго природа боролась с приличием.
С притужальником в руке, словно с саблей, тоже вынесло жёнку из-за кросен.
Однако этим острым орудием она так и не взмахнула ни разу.
Плясала с каменным лицом одними ногами, с места не сходя.
По-угорски отчебучивала.
Потому, наверное, на Сулгаре и кликали её Топтуньей.
23И от неё, от Еньки-Енех, разнеслось по Сулгару, по угорским и славянским домам, бабьим языком утвердилось прозвище новоявленной девки – Цыганка.
В тысячелетнем немотном Сулгаре вдруг взрывно взошла третья, яркая, очевидная чуждость. После чего славяне с угорцами как бы роднее стали, ближе.
Своими, «нашими» посчитались.
Обнаружился вдруг у них повышенный интерес к свадьбе Геласия-полукровки с невнятной деромой Степанидой…
Любопытным не было конца.
Одной кудели «нать». Другая хозяину подарочек на Крещенье несёт – вышитую утирку.
Третья с поклоном к Еньке – соли бы щепотку.
А сами глаз не сводили со Стеши.
Множились слухи о невиданном приданом новоявленной невесты. Тут уж тётя Мария постаралась.
В ожидании свадьбы вдруг душевно сошлась невеста с этой тетей Марией, дочкой первопроходца Синца.
Разница в возрасте не стала помехой для женской дружбы.
Каждый день можно было теперь видеть их склонёнными над сундуком Стеши.
Особенно восхищалась тётка гранёным пузырьком с жасминовым маслом. И бусами «на любовь» из шариков шерсти, пропитанных отжимками розы.
Нюхала, уносила с собой тётка Мария эти дивные запахи и отдаривала потом за них Стешу костяным оберегом, тканым пояском, диким мёдом.
Тайком Стеша показала новоявленной подружке дырочки в мочках своих ушей, пронизанных шёлковой ниткой для сохранения отверстия до венчания, будто девства.
И серебряные серёжки-крючочки с капельками.
Только и было у женщин в голове – свадьба!
Одной свадьба предстояла. Другой – вспоминалась.
– Меня-то, Стешенька, брали по-угорскому обычаю, – слышался в запечье шёпот тётки. – У них ведь жениха не подпускают к невесте, будто врага-душегубца. Мой Габор рвётся к дверям, а ему петлю на шею. Заарканили и к телеге привязали. Вот как у них. И выкуп за него давай! Ладно. Отпустили. А тут ещё, на-ко вам, трубку кожаную жених должен просунуть в дом невесты. В дверную щель. Эка срамота! Габор с этой трубкой ломится, а бабы не пускают. Габор-то нашёлся. Подпрыгнул да в дымник и протолкнул эту трубку охальную. Я поймала – свадьба началась. Ой, девка! А они ведь и сырое мясо едят. Жениху – ешь язык олений. А невесте – сердце. Кусай, рви зубами тёплое мясо. Кровь-то по рукам течёт. Господи! Шаман камлал. В бубен бил. Окурили меня до беспамятства. Это у них так положено, чтобы невеста сознание потеряла. Тогда её заворачивают в шкуры и везут в дом суженого. Там меня отпоили какими-то травами. Очнулась. Но всё равно вся свадьба моя прошла как в дурмане…
24Три слюдяных оконца в избе, и в каждом свету – по мастеру.
Низко склонилась над шитьём Стеша: бисеринку бы в щель не упустить. Тоже не без излишнего усердия и Енька-мать вышивала сыну красную жениховскую рубаху.
Геласий обложился красками в глиняных плошках. Писал свадебные иконы.
Самого бесстрастного Христа замыслил он для себя. Так и назывался образ по канону – «Спас мокрая борода». В церкви Важского городка рассмотрел Геласий этот лик.
Косицами свисают у Христа и волосы, и борода, и усы. Видать, только что из Иордана. Охолонувший. Взглядом не прожигает, а весь в себе: новизну какую-то в душе почуял – обдумывает.
Похож на богомаза, светлой памяти, дядю Прова.
Мальчишкой видал однажды Геласий, как наставник вот так же выходил из Суланды с мокрой бородой.
Волосик к волосику, будто только что расчесаны. Словно сохой по пашенке нахожено.
И теперь Геласий вторил эту бороду тонкими беличьими кисточкам по левкасу: полоска коричь – полоска чернь.
(Соответствующие пигменты наготовлены были у него из коры можжевельника и сажи.)
Летом бы Геласий развёл пингаму и в яичном желтке. Но среди зимы где найдёшь дикую кладку?
Клёст – один на сто вёрст.[80]
25А для невесты Геласий решил на венчание изобразить Божью Матерь Нечаянную Радость. Высмотрел в той же церкви Важского городка. Там на иконе выписан был вид горницы, посреди которой мужик удивляется нечаянному видению образа Богородицы.
Тут надо добавить, что Геласия-то в Важском городке настигла ещё и своя, личная, нечаянная радость. Это когда он вслед за Мишкой – «не беру лишка» вошёл в его дом, разогнулся за порогом низкой двери и увидел Стешу.
Плат у девушки до бровей. А глаза словно насквозь солнцем сзади просвечены. И оттуда брызжет на мужика его единственным и неповторимым, отнюдь не каноническим, счастьем.
Именно такой, на Степаниду похожей, и выливалась теперь из-под его кисти на донышко осинового ковчежца Богородица Нечаянная Радость.
26Началось с кузнечного плясового перезвона в избе жениха, а разнеслось по заснеженному Сулгару благовестом с переборами, красным звоном с храмовой колокольни.
Корячились на обледенелых балках звонницы дьякон Пекка-выкрест и старая девка Водла.
Простодушный дьякон лупил чугунным пестиком в било и дергал язык клепала. А снаружи по тевтонцу дзинькала обломком подковы блаженная Водла.
Радость обоих разлеталась в свадебном разгонном звоне. Веселой вестью проникала в избушки древнего поселения.
Нынче свадьба у Геласия Синцова!
И званы многие…
27Вылетели от церкви с колокольцами.
В санях за кучера тётя Мария – невестина подружка.
На запятках женихов дружка – брат Иван.
Кажется, и у коня праздник.
Боком рысит, с вывертом.
Будто знает про обычай – на свадьбе первую рюмку коню на голову с присловьем:
Вчера ел сено, глядел на солому,Сегодня – вино пей, ешь пироги!В дедушку Ивана выдался тёзка-внук.
С рождения тешился ядрёным словцом. Теперь кричал в прибежку за санями:
Наш князь противу неба на земле.Отсель на третьей версте.В чистом поле на заборе… свой точит.Княгиню учить хочет.А утром-то ещё этот охальник, войдя в дом Геласия огорошил всех вот как:
Я из города Ростова,Роду непростого.Куричкин зятёк,Петухов браток.Звать меня Сисой.Приехал за…28Званые собирались на пир.
Из Сулгара гурьбой брели по снегу дьякон Пекка, сын покойного шамана Ерегеба, дурковатый пятидесятилетний мужик в лаптях на босу ногу – крестился восторженно.
Его брат, нищий Гонта, в льняной рубахе на голом теле, подбитой мехом цеплялся к мягкому месту старой девки Водлы, выросшей на церковном прикорме и в приблудстве с отцом Петром.
В Кремлихе пристали к ним сын мытника Андрея Колыбы – Степан с женой Калистой. Оба в опашнях и пимах.
Староста Ошурок, из московских стрельцов, с серьгой в ухе, с двумя статными, драчливыми сыновьями и с непокорной, крикливой дочкой в цветастой кухлянке.
За ними порхал поршнями по снегу бледнолицый литвин Питолинский со своей угорской женой Илкой в долгополой малице.
Ближние соседи Геласия – окно в окно за рекой – Брат Ананий и дядя Габор в высоких грешневиках на головах выбирались из своих нор на звук свадебных криков и свистов. Присоединялись к толпищу.
Всё это воинство, восхищённое солнечным январским деньком, одетое в кожи и шкуры, в лён и веретьё, в мех и бересту, валило к застолью.
Навстречу им обратно в Сулгар за попом пролетел на обалделом от браги Серке дружка жениха брат Иван, орущий:
– Первую чарку погоняле. Вторую – коню! Пади ниц! Запор-рю!..
Конь скалил зубы и словно бы тоже хрипел:
– Загрыз-зу!
29Невесту ввели за тесовую перегородку. Доски в ней были подструганы, подогнаны женихом так, что ни щёлочки от земляного пола и до потолочин. А дверь за перегородку вела – на кованых петлях, не сравнить с кожаными навесами. Ни скрипу в ней, ни шороху.
Никакого раздражения свекрови.
Принудили там за перегородкой невесту (рукой в перстнях) пробовать на мягкость ложе из льняного обмолота.
Тоже не скрипнуло.
Скалились в нечистых улыбках, любовались смятением молодой. И потом шумно рассаживались.
В красном углу на лавках за прочным столом – избранные.
В продление стола наскоро тёсаные плахи на козлах. На них – середняки, под задами у которых зыбкие жерди.
Остальные толклись вдоль стен, сидели на полу под порогом.
И блюда с кушаньями так же постепенно, починно были расставлены.
Изощрённые – в ярком свете под божницей.
Простые – в тенях припечья.
Скудные – в подпорожней тьме.
Тарель с перепечей (просо с лосиными потрохами) громоздилась перед женихом и невестой. На деревянной лодье лоснилась запечённая лосятина, жареным духом била в нос попу и старшим мужикам.
В ржаной коре остывала щука.
А подпорожному люду был выставлен сундучок. На нём теснились три каравая хлеба и полнёхонек чуманчик соли.
Для голи – до отвала соли – слаще заморского алкана в братине у первых людей.
Хотя они ещё и браги зачерпнут деревянными кружками из лохани.
Да и не раз.
30Свеча перед молодыми, будто обрубок суковатой палки.
Сам жених не один день фитиль кунал в расплавленный воск и намораживал слой за слоем.
Теперь сияние огня от свечи продлевалось в лучах кики на голове невесты (в хворостинках наподобие веера, обтянутых белым шелком).
Огонь свечи бликовал в бородах, политых вином.
На алых губах баб.
Трещали кости выворачиваемых суставов в мясной туше.
На пол сплёвывались рыбьи хребтины.
Человечьи телеса размягчались в сытости, сливались в одно целое. Общим жаром стало распирать избу.
Словно бы под давлением этой силы распахнулась дверь в сени и оттуда хлынул морозный пар для охлаждения.
Созрела в этом парнике первая песня.
Заворожённо глядя на венчальную свечу, тетя Мария исторгла сипловатым горлом:
Во тереме ясна свеченька горитВоску ярого.Утаивает.У Геласия матушка выспрашивает:«Где ты был-побыл?»«Был у тёщеньки, у ласковыя».«Чем тя тёщенька дарила-отдаривала?»«Дарила меня тёщенька своим чадом милыим,Свет Степанидой Михайловной…»Потом тёте Марии кроме свежего воздуха ещё и свобода потребовалась.
Гору верхней одежды перекидала баба с полу на печь и пошла выбивать лаптями подпорожную:
Раздайся, народ, расшатися, народ!Дивна красота идёт. Её девица несёт.На своих на резвых ножках,На сафьяновых сапожках!Пока тётя Мария во весь размах выказывала новгородскую натуру, новоявленная угорская свекровка Енька-Енех молча столбиком вокруг неё топталась с прижатыми ручками.
Дождалась очереди и запела с носовым призвуком:
Бан ердё жарва-арани саганз.Гонта кабаль ин:«Ал! Гилкос! Тузель!..…Эгеж вэндег таж,Паранч танколоз!»[81]От звуков родного языка воспрянула языческая половина свадьбы. Выскочили плясать безбородые со своими фележками (женщинами). Брюхо вперёд, а к хребту будто колья привязаны. Руки угорцев болтались плетьми.
Вся пляска – в ногах. В сотрясении земли.
Прискочат да пуще прежнего задробят.
Понемногу дикость обуяла собравшихся.
Кричали, лезли в драку, валились под столы.
Брат Иван по старшинству и по древним порядкам возжелал поиметь невесту прежде младшего. Пытался сорвать с неё одежды. А когда Геласий укрыл Стешу за перегородкой, ломился в дверь.









