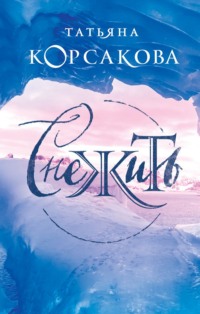Полная версия
Третий ключ
Люся уже хотела разразиться возмущенной тирадой, но Сандро, в обычной жизни едва ли не более вспыльчивый, чем она сама, поспешил загасить пламя разгорающегося конфликта.
– Что там, Степаныч? – спросил он, прикладывая козырьком ко лбу широкую ладонь и силясь рассмотреть в бликующей на солнце воде хоть что-нибудь.
– А хрен его знает. – Степаныч лениво обмахнулся кепкой. – Аквалангисты нашли что-то.
– Эй, нам бы подсобить! – послышалось со стороны моторки. – Степаныч, у вас тут кто-нибудь плавать хорошо умеет?
– Вот вопросик! – Степаныч в раздражении сплюнул себе под ноги. – Откуда ж мне знать, кто тут у нас плавает хорошо!
– Вай, дорогой, зачем обижаешь? Сандро в воде родился. – Не дожидаясь приглашения, повар сбросил сандалии, через ворот, не расстегивая, стянул рубашку, зыркнул в сторону Люси сливовым своим глазом, покрасовался с секунду, поиграл мускулами и щучкой ушел под воду.
Вынырнул он лишь метрах в семи от настила, фыркнул, что тот жеребец, помахал Люсе рукой. Вот ведь пижон! Можно подумать, ей интересно на него смотреть! Можно подумать, ей вообще есть дело до того, как он красуется, как гребет неспешно, выверенно, толкая поджарое тело все ближе к лодке.
– Красуется, – сказал Степаныч не то осуждающе, не то одобрительно. – Люська, ты глянь, какой мужик хороший. И холостой, я узнавал.
– Был у меня уже один такой хороший, – отмахнулась Люся. – Спасибо, Степаныч, накушалась.
Вот еще глупость какая – обращать внимание на какого-то там повара! Да за ней в Москве мужики табунами ходили! Потому что она не только умница, но еще и красавица, каких поискать. Ну и что, что от природы ее волосы невыразительного мышиного цвета?! Какая женщина сейчас помнит свой натуральный цвет волос? Сейчас она самая что ни на есть натуральная голубоглазая блондинка, с бюстом полноценного четвертого размера, осиной талией и стройными ногами. Мерилин Монро – вот она кто! А Свирид не оценил… То есть сначала вроде как оценил, а потом ему, понимаешь ли, стало все равно. Ну да бог с ним, со Свиридом, было и было! У нее теперь новая жизнь, она большой босс, управляющая элитным не то санаторием, не то реабилитационным центром. Она теперь о-го-го каких высот достигнет! Что ей какой-то Сандро…
Сандро тем временем уже подплыл к аквалангистам, уцепился мускулистыми руками за край лодки. Совещались они недолго, после короткого спора один из аквалангистов сбросил в воду трос, второй снова нырнул. Сандро тоже нырнул. Не было его так долго, что Люся помимо воли начала волноваться. Мало ли что! Еще потопнет, где ей перед самым открытием центра замену искать?!
Наконец вода возле лодки забурлила, пошла кругами, и на поверхности показалась лысая башка Сандро. Он что-то коротко сказал аквалангисту и снова нырнул. Люсе стало скучно. Мало интереса стоять под палящими лучами и, щурясь от солнца, пытаться рассмотреть хоть что-нибудь. Солнцезащитные очки остались в кабинете, а заработать ранние морщины она совсем не стремилась. Но и уходить с пристани тоже не хотелось, вдруг окажется, что нашли они не какой-нибудь поломанный велик, а что-то на самом деле интересное! Наконец, когда Люсино терпение уже почти лопнуло, моторка медленно направилась к берегу.
– Волоком тащат, – со знанием дела сказал Степаныч. – Что-то тяжелое. Гляди, как лодка наклоняется.
– Да что ж там может быть тяжелого-то? – спросила она раздраженно.
– А вот сейчас и посмотрим.
Находку вытаскивали на берег долго, матерясь и переругиваясь, позвав на подмогу того самого нерадивого ремонтника, подключив Степаныча. Наконец на желтый пляжный песок выползло что-то большое, зеленое, покрытое осклизлыми водорослями, похожее на дохлое чудище.
– Это что еще такое? – шепотом спросила Люся.
– Это? – Степаныч обошел находку со всех сторон, присел на корточки, поскреб пальцем зеленый бок, сказал озадаченно: – А это, Люся, похоже, она и есть.
– Кто – она? – в один голос спросили все, кто участвовал в спасательной операции.
– Спящая дама. – Степаныч резко выпрямился, обвел присутствующих мрачным взглядом.
– Да ты что?! – Люся тихо охнула, попятилась подальше от находки.
– Вот, значит, куда твой батяня ее дел. – Степаныч не смотрел в ее сторону, он почти с нежностью водил ладонью по чему-то отдаленно напоминающему женское лицо. – Значит, не решился-таки на переплавку, в пруду утопил.
– А что за статуя такая? – спросил Сандро, присаживаясь на корточки рядом со Степанычем.
– Местная достопримечательность. – Завхоз достал из кармана брюк носовой платок, промокнул им выступивший на лбу пот. – Считается, что статуя была сделана итальянским скульптором Антонио Салидато по заказу хозяина здешних мест графа Ильи Полонского сразу после скоропостижной смерти его жены Ольги Матвеевны. В лихие революционные годы статуя пропала. Поскольку особой исторической ценности она не представляла, искать ее не стали. А потом, уже при моей памяти, когда старый графский дом было решено переоборудовать под сельский клуб, мы ее и нашли в подвале под кучей хлама.
– Эй, Степаныч, а ты откуда такой умный, а? Про скульпторов итальянских знаешь, про революционные годы. – Сандро выглядел непривычно мрачным, наверное, обиделся на то, что Люся осталась равнодушна к его выкрутасам.
– Спрашиваешь! – Люся заглянула поверх его плеча, поморщилась при виде осклизлого бока статуи. – Это сейчас Степаныч – завхоз, а раньше-то он был учителем истории и смотрителем в поместье. Между прочим, лучше него про здешние места, – она широким жестом обвела пруд и виднеющийся в просветах старого парка графский дом, – никто не знает.
– А почему она называется Спящей дамой? – спросил один из аквалангистов.
– Долгая история, – Степаныч пожал плечами, – как-нибудь потом расскажу.
– Там, на дне, еще две статуи поменьше, – вмешался в разговор второй аквалангист. – Эта почти на виду, а те сильно заилены, придется поковыряться, чтобы достать.
– Еще две?! – глаза Степаныча зажглись жадным блеском. – Это, надо думать, ангелы, графские дочери. Удивительно! Просто поразительно! Я только читал про них, видел старую репродукцию…
– Так уж и ангелы? – усмехнулся Сандро.
– Статуи называются Ангелы скорби, сделаны все тем же Антонио Салидато после трагической смерти девочек. Пропали они одновременно со Спящей дамой. Только вот Дама нашлась, а Ангелы – нет. Все думали, большевики их уничтожили или куда-нибудь вывезли, а они, оказывается, все это время были здесь, у нас под носом…
– Слышишь, Степаныч, – Сандро потемнел лицом, – мы там, в пруду, еще кое-что нашли. Только это нужно будет поднимать с ментами.
– С ментами? – насторожилась Люся.
– Ага, – поддержал Сандро один из аквалангистов, – там жмурик на дне…
* * *«Уазик» лихо скакал по колдобинам, буксовал в рытвинах, вгрызаясь в высохшую до каменной твердости землю, ревел на всю округу. Можно было, конечно, не выпендриваться, подъехать к графскому дому с другой стороны, там стараниями Свирида дорогу проложили вообще шикарную, от самого райцентра, но участковому милиционеру Петру Огонькову захотелось вдруг вот так, с ветерком, через прерии. Да, честно говоря, не просто так захотелось, а по причине весьма прозаичной: езда с препятствиями по колхозному лугу позволяла отсрочить неприятный момент опознания трупа. Вот, казалось бы, здоровый он, Петруха, мужик, крепкий, рослый, подкову может двумя руками согнуть, работает в органах на должности серьезной и ответственной, даже табельное оружие при себе имеет, а к виду смерти так и не привык. И если обычных покойников он еще кое-как мог выносить, то с утопленниками дело обстояло гораздо серьезнее. Утопленников бравый милиционер Петр Огоньков боялся до икоты, хотя не признался бы в этом никому, даже самому себе.
Вот и сейчас он убеждал себя в том, что спешить некуда – пока еще приедут спецы из райцентра! – так что можно прокатиться с ветерком по свежему воздуху, обозреть, так сказать, окрестности. Жаль только, что, как ни петляй, а дорога уже подходит к финишной прямой. Вон и липовая аллея впереди, значит, до поместья осталось полкилометра.
По аллее неспешно шла какая-то дамочка. По виду нездешняя, потому что никто из здешних не вырядился бы в драные джинсы и безрукавку, похожую на мужскую майку, и на голову бы не повязал дурацкий платочек с черепами. Видать, дачница, потому как санаторий еще закрыт и постояльцев в нем пока нет.
Поравнявшись с дамочкой, Петр намеренно сбросил скорость, вытянул шею, всматриваясь в скуластое, наполовину закрытое большими, какими-то стрекозиными очками лицо. Сейчас бдительность не помешает, труп – это вам не хухры-мухры, труп – это ЧП. И нечего всяким шастать возле места преступления.
– Петя, ты или проезжай, или притормаживай, – сказала вдруг дамочка низким, с прокуренной хрипотцой голосом. – Напылил тут…
– А мы, гражданочка, с вами знакомы? – Петр все-таки притормозил, наполовину высунулся из «уазика».
– Знакомы, товарищ милиционер. – Дамочка сняла очки, улыбнулась широкоротой, чуть кривоватой ухмылкой, от которой на одной щеке образовалась симпатичная ямочка.
– Глашка? Глашка, ты, что ли?! – Петр выключил мотор, спрыгнул в пыль на дорогу, обвел дамочку уже другим, жадным, взглядом. Вот, значит, как выглядит их антоновская знаменитость. Он-то уже решил, что Глашка в своей Москве красавицей-раскрасавицей стала, пластических операций наделала, рожу подрихтовала, а она, оказывается, почти ничуть и не изменилась, как была тощей уродиной, так и осталась. Только остатки стыда растеряла, вон под майку даже лифчик не надела. Хотя зачем ей лифчик?! То ли дело его Маринка! Вот где красота настоящая, ни в какой рекламе не нуждающаяся.
– Что смотришь, Петенька? – Глашка продолжала улыбаться, но взгляд ее сделался колючим, настороженным, как когда-то давным-давно. – Никак не признал?
А и правда, что это он пялится, да еще и судит? Ну не повезло девке с внешностью, зато карьеру сделала! Мужиков, говорят, каждый день меняет, по курортам модным раскатывает.
– Да признал. – Петр смущенно улыбнулся, поколебался немного, а потом раскрыл подруге детства объятия. – К нам-то какими судьбами? Ты ж, говорят, сейчас крутая.
– Крутая. – Глашка усмехнулась, потрепала его по свежевыбритому подбородку, зыркнула черными цыганскими глазюками так, что на какое-то мгновение у примерного семьянина, отца двоих детей Петра Огонькова занялось дыхание. Теперь понятно, чего в ней мужики столичные находят. Она на них вот так посмотрит, и все, пиши пропало… И пахнет от нее так непривычно, чем-то нежным, горьковатым, как в саду после дождя. Не то что от Маринки. У Маринки проще все: духи сладкие, как леденцы, и такие же дешевые. Эх, надо будет на днях в райцентр смотаться, купить любимой жене что-нибудь настоящее, французское…
– Я к бабушке приехала в отпуск. – Глашка отступила на шаг, снова нацепила свои стрекозьи очки и стала самой обыкновенной тощей и некрасивой городской бабенкой. Прошло наваждение, слава тебе, господи…
– А сейчас-то куда топаешь? – Петр с опозданием вспомнил, что он не просто так раскатывает, что он при исполнении, а до места преступления пять минут ходу.
– Да вот, решила к поместью прогуляться. Бабушка говорит, там по-другому все, хозяин у него теперь есть. А ты куда?
– И я туда же. – Петр секунду подумал, а потом распахнул перед Глашкой дверь «уазика». – Садись, подвезу.
– Да тут же недалеко.
– Садись, садись, – велел он строго. – Я ж не просто так катаюсь, я в поместье по делу. Без меня тебя туда вообще не пустят.
– А что так? – В Глашкином прокуренном голосе послышалась насмешка, и Петру вдруг сделалось обидно.
– А то, что водолазы из пруда утопленника выловили, – сказал он мрачно. – Скоро бригада подъедет, посторонних туда точно не пустят.
– Утопленника? – Смуглое, до бронзы загорелое лицо Глашки вдруг сделалось пепельно-серым, и Петр, который вовсе не был злым, тут же себя укорил за черствость. Совсем забыл, что у Глашки к старому пруду особенное отношение.
– Слышь, это я зря, видно, тебе сказал, – пробормотал он. – Ты это… если не хочешь, не ходи. Домой ступай, пока я там буду разбираться.
Сказать честно, никто ему разбираться не даст, но пыль в глаза пустить охота. Чтобы не думала, что они там у себя в Москве крутые, а он тут в Антоновке просто так, не пришей кобыле хвост.
– Не, Петь, я с тобой съезжу, если, конечно, можно. – Глашка упрямо мотнула головой, и стрекозьи очки слетели на землю. Взгляд у нее теперь был уже совсем другой, не насмешливый, а напуганный и, кажется, решительный. Вот этот взгляд он помнил хорошо, он был Петру привычен и не нервировал непонятными потаенными искрами, не сбивал с пути истинного.
– Поехали, – решил он, поднял очки, черканул радужными стеклами по рукаву форменной рубахи, стирая пыль, протянул Глашке. – Только чтобы тихо мне. С вопросами всякими не лезь и под ногами не путайся. А то знаю я вас, журналистов.
Московская знаменитость возражать не стала, поблагодарила за очки, забралась в «уазик».
К месту преступления подъехали спустя пять минут. Петр нарочно максимально сбавил скорость, чтобы Глашка смогла рассмотреть и оценить перемены, произошедшие в графском поместье. Она смотрела во все глаза, даже про сигарету, зажженную, но так ни разу и не поднесенную к губам, забыла. А Петр, который всего полгода как бросил курить, адски мучился, вдыхая необычный, как и духи, табачный дым. Если бы не страшная клятва, данная Маринке, то точно не удержался бы, стрельнул сигаретку, а так терпел из последних сил.
У пруда, у той его части, где строители организовали новенькую лодочную станцию, толпился народ. Петр смог рассмотреть коренастую фигуру Степаныча, ярко-красное, вульгарное, как сказала бы Маринка, платье Люськи Самохиной и лысую башку грузина, числящегося в поместье шеф-поваром. Остальной народ был незнакомый и явно на месте преступления лишний. Хотя какое здесь место преступления! Утопленника-то не на берегу нашли, а в пруду. И не факт, что преступление имело место быть, может, просто потонул кто по дури или по пьяни.
– Ну, что у вас тут? – Петр лихо спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока из «уазика» выберется Глашка, направился к пруду.
– Утопленник, – буркнул незнакомый парень, затянутый в гидрокостюм.
Позади него у самой кромки воды лежало тело, зеленое, оплетенное водорослями, безобразное. Петра замутило.
– Да не туда смотришь, товарищ милиционер, – усмехнулся грузин. – Это не труп, это статуя. Труп мы со дна не доставали, ждали разрешения официальных властей.
Значит, это не труп, а всего лишь статуя! Кислый ком, уже подкативший было к горлу, соскользнул обратно в желудок.
– Так вот вам официальное разрешение, – сказал Петр нарочито громко и зло. – Доставайте!
– А я, между прочим, не подряжался жмуриков со дна вытаскивать, – огрызнулся парень в гидрокостюме.
– Да брось ты, брат, – грузин примирительно взмахнул рукой, – надо человеку помочь. Ну хочешь, я вместо тебя нырну?
– Обойдусь как-нибудь без помощников. – Парень кивнул напарнику и уселся в лодку. – Под твою ответственность! – он с неприязнью посмотрел на Петра.
Ясное дело, под его ответственность! А кто ж здесь еще уполномочен брать на себя ответственность?
– А это кто с тобой? – Люська бесцеремонно ткнула наманикюренным коготком в сторону Глашки. – Маринка-то твоя знает, что ты в рабочее время дачниц на служебной машине катаешь?
Вот ведь язва! Как была заразой языкатой, так и осталась, даже городская жизнь ее не изменила. Небось сегодня же побежит Маринке докладывать…
– А я не дачница. – Глашка, похоже, решила, что пора выйти на сцену, шагнула из тени старой липы на желтый пляжный песок, сняла очки, кивнула всем сразу, ухмыльнулась козырной своей кривоватой улыбкой.
– Какие люди в Голливуде! – пропела Люська. – Никак сама Аглая Ветрова, звезда столичного бомонда, к нам пожаловала! – Голос у нее сделался сахарный, аж до одури.
Вот ведь бабы! Им и время нипочем! Старая дружба не ржавеет. Хотя про дружбу это он зря, дружбой здесь никогда и не пахло, а чем пахло, вспоминать не хочется, да и незачем.
– Сама, сама. – Из заднего кармана джинсов Глашка достала пачку сигарет, сунула одну в рот, но прикуривать не спешила, ждала, пока кто-нибудь из мужиков поможет. Зря ждала, не тот здесь народишко собрался. Вот он, Петр, обязательно помог бы, если бы не бросил курить.
Оказалось, ошибся он в оценке собравшихся на лодочной станции мужиков: к незажженной Глашкиной цигарке потянулись сразу три руки: мокрая аквалангиста, влажная от пота Степаныча и волосатая грузина. А залетная звезда Аглая Ветрова кивнула по-королевски, улыбнулась всем и сразу, но прикурила от зажигалки грузина, и Петр, привыкший проявлять бдительность, с удивлением заметил, как размалеванное Люськино лицо перекосила гримаса злости. Ох, Люська-Люсинда! Вечно ей мужиков мало, вечно хочется вырвать кусок пожирнее из пасти конкурентки. Только кого ж здесь вырывать-то? Ну разве что аквалангиста. Молод, накачан, хорош собой – как раз в Люськином вкусе. Даже странно, что с такими-то вкусами замуж она вышла за Свирида. Вот уж кто ни по каким статьям не укладывался в ее стандарты. Впрочем, время показало, что Люська не прогадала: изо всей их удалой компании фортуну за горло взял именно Свирид. Да вот еще Глашка. А кем были-то? Как же это старший сын Ванька таких называет? Лузеры – вот! Лузерами они были, что Глашка, что Свирид…
– А какими судьбами? – Люська больше не кривилась, Люська улыбалась широко и ласково, так, словно встретила любимую подругу. – Ты ж, говорят, сейчас все больше по заграницам разъезжаешь. Что тебе в нашей глуши?
– Так уж и в глуши? – Глашка глубоко, по-мужски, затянулась, многозначительно посмотрела на графский дом. – У вас здесь, как посмотрю, настоящий эдем организовался.
– Организовался, – фыркнула Люська, – не организовался, а организовала. Я организовала, между прочим. Вот этими руками. – Она задумчиво посмотрела на свои остро заточенные, ну точно как у упыря, когти. – Свирид, понимаешь ли, сейчас очень занятой, у него денег куры не клюют, а времени нет нисколечко. Говорит: «Бери, жена, деньги, сколько нужно, и начинай свой бизнес».
– Так ты теперь бизнес-леди? – В голосе Глашки прозвучал вежливый интерес.
– Ага, у нас семейный бизнес! – Люська сделала ударение на слове «семейный», и Петр мимоходом удивился: ну ладно бизнес, но с какого перепугу семейный! Ведь всем антоновским давно известно, что не сложилось у них со Свиридом ничего, если еще не разошлись, то уж точно скоро разойдутся. А то, что Свирид доверил это дело Люське, так он в своем праве. Во-первых, он всегда был чутîк того, непредсказуем, а во-вторых, Люська, хоть и стервозина, каких поискать, но свое дело знает, если уж вцепится во что, так мертвой хваткой. Без нее бы ничего путного из этой затеи с санаторием не вышло.
– А ты, Аглая, надолго к нам? – Не то чтобы Степаныч спешил погасить назревающий пожар, скорее, просто проявил вежливость. Он же интеллигент, даром что завхоз, ему нужно, чтобы все чин по чину было – с церемониями.
– Василий Степанович? – А вот сейчас Глашка, похоже, удивилась. Неужто не признала наипервейшего антоновского сказочника?!
– Не узнала меня, Аглая? – Степаныч расплылся в добродушной улыбке. – Так и немудрено. Мы с тобой сколько лет не виделись? Десять?
– Пятнадцать.
– Вот, пятнадцать! – Степаныч потеребил густой ус. – Пятнадцать лет – это только для таких нимф, как вы с Люсей, не возраст, а для меня, старого пня, практически рубеж.
– Так уж и рубеж? – Глашка выпустила струйку сизого дыма, уставилась на Степаныча внимательным и беззастенчивым взглядом, точно пыталась сравнить тот образ, который сохранился в памяти, с нынешней картинкой. – Вы еще о-го-го какой мужчина! – сказала с усмешкой.
– Ой, ну прямо дворянское собрание какое-то! Развели церемонии! – хмыкнула Люська. – А ничего, что у нас тут Спящая дама отыскалась, а там труп в пруду плавает? Или вас это нисколько не смущает?
– Можно подумать, тебя смущает! – не удержался Петр, которому упоминание о предстоящей нелегкой процедуре извлечения и, возможно, опознания утопленника не подняло настроение.
– Меня смущает! – Люська притопнула каблучком от негодования. – Нам через неделю пансионат открывать, а тут такое! Как думаешь, много народу к нам приедет, если станет известно про этого твоего жмурика?!
– Он не мой жмурик, – отмахнулся Петр. – Он пока ничейный. Что-то долго они там возятся.
Словно в ответ на его претензию, вода возле лодки запузырилась, и на поверхность всплыл сначала аквалангист, а потом еще что-то, с берега не различимое. Кислый ком, который, оказывается, никуда не делся, медленно, но неуклонно двинулся вверх по пищеводу.
Дневник графа Полонского11 июля 1913 годаНе заметил, как день прошел, перетек в непроглядную ночь. Вдвоем мы сейчас: я и Оленька. Она мертвая и в смерти своей прекрасная, как ангел. Я тоже уже почти мертвый, безобразный в своем никчемном существовании.
Не установил Илья Егорович причину смерти. Или мне не захотел сказать? Вместо ответа про неисповедимость путей Господних заговорил, советовал смириться, никого не винить в трагической этой случайности.
Случайность! Оленьки нет, а он мне про случайность! Знаю, кто виноват, не нужно далеко ходить, достаточно сдернуть с зеркала черную кисею да вглядеться повнимательнее. Я виноват! Упреки мои, ревность неизживная довели Оленьку до последней черты. Вместо того чтобы радоваться, счастье свое пить полной чашей, я травил и себя, и ее унизительными подозрениями, ревновал, как мальчишка, обижал неверием и злыми словами, не мог или не хотел поверить, что такая, как она, может искренне любить такого, как я. Не за титул, не за деньги и модные платья, а просто так. Не как благодетеля и спасителя, а как мужа, как мужчину, в конце концов!
Бесприданница, бессребреница, сирота – легкая добыча для алчных и подлых. Моя добыча. Она ведь и не раздумывала почти, когда я к ней в дом явился с предложением руки и сердца, потому как умная была девочка, понимала, что лучше уж стать законной женой старого графа Полонского, чем любовницей какого-нибудь молодого прощелыги. Вот потому что не раздумывала, я и сделался таким подозрительным, понимал, что любви между нами никакой нету, боялся, что повзрослеет моя Оленька, поймет, что проходит молодость с нелюбимым мужем, к другому уйдет.
А она все твердила: «Одного тебя люблю, Ванечка, никто мне не нужен». И ведь ласковая какая со мной была, терпеливая! Я, бывало, сорвусь, накричу на нее, а она в ответ только улыбнется печально, будто знает обо мне что-то такое, что мне самому неведомо. Мне бы с рождением дочек угомониться, взять в толк, что моя она теперь, навеки моя, да только материнство Оленьку еще краше сделало, а любовь мою еще мучительнее. Ревновать начал, к малым детям ревновать, к собственным кровиночкам. Понимал, что страшно это, не по-христиански, а ничего с собой поделать не мог, не хотел делить Оленьку ни с кем. Потом-то поостыл, посмотрел на Настеньку с Лизонькой другими глазами, понял, что жена их иной любовью любит, недоступной мужскому пониманию. Смирился. До тех пор пока девочки наши не подросли, пока не стали мы в свет выезжать.
Я бы не выезжал. Что мне эта напыщенность, суета и тщеславие! Для балов я слишком стар, для интриг слишком равнодушен, для борьбы за власть слишком богат. Но свет не желал оставлять нас в покое, свет желал видеть графа Полонского непременно с молодою супругой. Чтобы оценить новых рысаков, запряженных в новую же золоченую карету, из Санкт-Петербурга выписанное, по последней моде сшитое Оленькино платье да старинное бриллиантовое ожерелье. Чтобы с жадностью подметить то, что еще не подмечено, лишний раз позлословить по поводу чудовищного мезальянса. Я понимал это остро и болезненно, а Оленька успокаивала, уговаривала, с честью несла и бриллиантовое ожерелье, и модное платье, и титул графини Полонской. И в чести этой она была куда большей аристократкой, чем те, кто мнил себя таковым.
А я ревновал, забывал дышать, когда какой-нибудь молодой хлыщ приглашал Оленьку на вальс, бесновался, когда ловил восхищенные взгляды, на нее направленные, умирал, когда Оленькиной ручки касались чужие жадные губы, готов был убивать…
И убил… Неверием, упреками, любовью своей сумасшедшею.
Свечка в Оленькиных тонких пальчиках потрескивает, желтое пламя вздрагивает, как от ветра, а на губах застыла улыбка. И мотылек – над огнем, мечется, не боится обжечь крылышки. Доверчивый, совсем как моя Оленька… Нет сил смотреть, и слез нет. Ничего нет – выгорело все на рассвете вчерашнего дня.
– …Не закапывай… – голос, скрипучий, ненавистный, колышет пламя свечи, грозится загасить. – Не закапывай Ольгу в сырую землю, барин. Не убивай дважды.
Ульяна, старая карга! И как только пробралась, ведь велел же никого не пускать, не мешать мне! Но этой ведьме мое слово не указ, у нее одна только хозяйка была, которой она верой и правдой, точно собака, служила, – Оленька. Потому как ведьма – Оленькина кормилица и единственная на всем свете заступница. Во всем моя жена была покорной, кроме одного: не позволяла никому ведьму обижать, даже мне. Вот и терпел я это кособокое, хромое, в лохмотья закутанное существо в своем доме, ради Оленьки терпел.