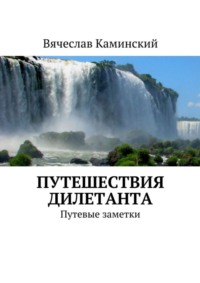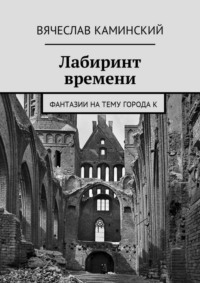Полная версия
Лабиринт времени
– Что, несчастная любовь? – спросила женщина и засмеялась. – Не переживай, нужна тебе эта кукла – другую найдешь.
– Почему кукла? – мелькнуло в голове Игоря, но он не стал на этом зацикливаться.
Тем более, что спасительница продолжала успокаивать его:
– Лучше иди-ка ты, дрогой, домой. Проспись. И всё пройдет.
Он послушно пошёл обратно в общагу. Вошёл в комнату. Стол был почти пустой, зато гости – сытые и в меру пьяные. Они о чём-то говорили, смеялись, не забывая при этом есть и пить. Кто-то танцевал под его магнитофон, кто-то кого-то тискал. Всем было хорошо. Никто из гостей даже не заметил отсутствия виновника торжества – а что, разве кто-то куда-то уходил?
Но Лиза, похоже, всё-таки чувствовала за собой какую-то вину. Она подошла к Игорю и тихо спросила:
– Ты что, обиделся?
– Нет, – ответил он.
– Хочешь, я тебя в «счёчку» поцелую? – предложила она и чмокнула в пунцовое от мороза лицо горячими губами.
Игорю хотелось поделиться своими воспоминаниями с Теодором, но тут двери дома отворились. На пороге со свечой в руке стояла та самая старуха. Она посмотрела в их строну и, прошамкав:
– Поспеши, а то опоздаешь! – растворилась в темноте…
Обитель муз
И тут Теодор вспомнил, куда он собственно должен был успеть. Он нащупал во внутреннем кармане конверт, тот был на месте. В этом конверте лежало главное его сокровище – пригласительный билет в оперу на моцартовскую «Волшебную флейту». И хотя Теодор знал ее всю наизусть, и даже сам сочинил несколько вариаций на главные темы, правда тут же их и сжег – смеет ли он править самого Бога, но такое музыкальное событие пропустить не мог. Спасибо, друг Готлиб достал ему этот драгоценный пропуск в волшебный мир музыки, ведь теперь, когда Моцарта, наконец, официально признали гением, а его песенку Папагено распевали чуть ли не в каждой пивной, весь высший свет Кенигсберга почел за честь присутствовать на этом представлении.
– Бежим, – крикнул Теодор, – нам нельзя опаздывать.
– А где Карл? – спохватился студент. – Ты его не видел?
– Нет, – ответил Теодор.
– Карл! – стали звать приятели своего благодетеля – Карл!
Но в ответ- тишина.
И тут из туч выплыла большая круглая луна, осветив всю улицу. Без Карла. И только по булыжной мостовой медленно тащилась какая-то крытая карета с раскачивающимся зеленым фонарем, а вслед за ней, опустив голову, в тяжелом железном шлеме брел унылый полицейский.
– Нигде нет. Улетел он, что ли – развел руками Игорь.
– На луну, – поддакнул Теодор. – Видишь, то черное пятнышко прямо посередине диска. Наверняка это наш Карл. Уже поди подлетает, если, конечно, его в ту «зеленую Мину» не посадили, – и молодой человек махнул рукой в сторону удаляющейся кареты. – Нас с тобой, между прочим, тоже могли туда упрятать… В тюремной башне мы бы с тобой быстро протрезвели. Да, что с нас взять, голоштанных. А вот с нашего Карла они могут еще не один талер вытрясти. Да, жаль барона.
Глаза быстро привыкли к темноте, тем более, что узкая кривая улочка незаметно сменилась широкой прямой «штрассой». Идти по ней было значительно проще, однако у Теодора и на этот счет было свое особое мнение. Ему были милее старые узкие улочки, по которым, как он выразился: можно пойти в одно место, а прийти совсем в другое.
– Так в этом же вся и прелесть, – убеждал он своего спутника. – А сейчас… Ну что это: старые фахверковые домики посносили, прорубили эти никому не нужные прямые прошпекты. Гусарам по ним только маршировать на своих кобылах. Да, нашему королю нужны только плацы для парадов и маршей, прощай милый город… Через год-два я вообще тебя не узнаю. Башен нет, ворот тоже. Не город – проходной двор.
Тем временем путники приблизились к Замковому пруду, в котором отражались огни «Обиталища муз». Увы, после того, как умерла его хозяйка Каролина Амалия во дворце все реже и реже звучала музыка. Но иногда все же еще звучала. Подъезжали кареты, оттуда выходили знатные дамы и еще более знатные кавалеры. В большой зале туда -сюда сновали важные слуги, разнося бокалы с вином, так что насладиться музыкой никто особо не торопился, тем более под рейнское, хоть и не самое лучшее было о чем поговорить и что показать. Кто-то демонстрировал блестящие пряжки на своих лакированных башмаках, кто-то слишком усердно размахивал тростью, в изумрудном набалдашнике которой отражались не только мерцающие языки свеч, но и завистливые физиономии, тех, у кого таких набалдашников не было. Какой-то почтенный бюргер уговаривал главного архитектора снести городскую башню, так как она загораживает вывеску в его кондитерскую.
– Поймите, – пытался объяснить ему чиновник, – затраты на снос башни будут больше, чем те камни, которые мы сможем продать после ее сноса. Это нецелесообразно и экономически невыгодно. Разве если вы найдете мне достойного покупателя на эти булыжники.
– Найду, – обрадовался хозяин кондитерской. – Вот вам крест, найду. Только снесите…
– А, Цахес! – Теодор подбежал к высокому худощавому мужчине со смешным хохолком светлых волос на голове, который о чем-то оживленно беседовал с толстым важным господином. Похоже, у них был какой-то деловой разговор, и посторонние уши им абсолютно были не нужны. Поэтому, важный господин быстро раскланялся и также быстро удалился.
– Знакомься, Ансельм! – не обращая внимания на то, что спугнул собеседника, сказал Теодор, – это Цахес, как я его звал в детстве, а ныне известный литератор Захариас Вернер. Не слыхал? Между прочим, Бог. Или почти бог. Помнится, когда мы жили с ним под одной крышей, мамаша его частенько потчевала нас водичкой, которую крошка Цахес превращал в вино. Я правда не могу утверждать, что это было хорошее вино, поскольку ввиду моего малолетства, мне его не давали, но все мои тетушки, и матушка в один голос утверждали, что это был божественный напиток. Вот, Ансельм, какова сила внушения. Что ж ты хочешь – Бог.
– Не паясничай, – прошипел Захариас. – Ты отлично знаешь, что моя мать больная женщина.
– Но это не мешало нам по утрам молится на тебя всем домом, включая прислугу. Правда, правда, Анесльм. Я не шучу. Его мать уверяла нас, что это – новый Иисус! И я почти поверил…. А сейчас, наш славный Захариас хочет всех убедить, что пишет гениальные стихи. Ты только послушай, Ансельм, разве это не гениально:
«Когда тебя, прекрасную, как розу
Пред алтарем увидел я…
Когда я в танце своевольно
Прильнул к твоей груди…» та-ра-ра-ра. Ты можешь представить, Ансельм как можно в танце прильнуть к груди… так ведь не трудно промахнуться и прильнуть к чему-нибудь менее выдающемуся.
– Прекрати, Эрнст. Я сюда пришел не для того, чтобы слушать твои колкости.
– Неужели ради Моцарта? Ты же сам не так давно утверждал, что он бездарность. И что наш обожаемый городской композитор Людвиг Бенда обладает куда большими талантами, чем Вольфганг Амадей. Одна «Луиза» его чего стоит. Шутка ли – тридцать с лишним представлений в одном городе. Бедному Моцарту такое и не снилось. – При этих словах Теодор даже расхохотался.– Вот такой тонкий музыкальный вкус у наших городских меломанов. Вот где проживают подлинные ценители творчества Великого Моцарта.
– Я и сейчас скажу, что его «Дон Жуан» – весьма посредственное произведение, – процедил сквозь зубы Вернер.– Другое дело – «Волшебная флейта». Здесь господин Моцарт проявил некоторые способности и определенное умение. Но я своими принципами не поступлюсь и по-прежнему считаю, что посвящать целую оперу сластолюбцу, человеку без каких- либо моральных и нравственных ценностей, аморально. Будь моя воля, я бы вообще запретил ее исполнение, так как эта опера развращает умы и сознание добропорядочных граждан. Какой пример господин Моцарт, пусть его с нами уже и нет, показывает нашему подрастающему поколению.
– Полноте, Цахес. Ты и впрямь так считаешь? – Теодор театрально всплеснул руками. – Надо же, кого я слышу: живую добродетель, защитника нравственности. Блюстителя порядка. Филистер! – перешел он на крик. – И вот такая добродетель, Ансельм, представь себе, тайно лечиться от весьма пикантной болезни. Кто ж тебя ею заразил, Цахес? Не иначе, как святой дух. Ты ж у нас – Бог!
– Мерзавец, – выругался Вернер, – зачем ты распространяешь грязные сплетни. Ты отлично знаешь, что у меня, в отличие от тебя, безупречная репутация. И ты не сможешь меня скомпроментироать.
– Конечно, конечно, и потому ты вправе болеть чем угодно и от кого угодно… Пошли, Ансельм, нам не о чем с ним говорить.
– А я еще хотел предложить написать тебе музыку к моей поэме, – крикнул ему вслед Захариас.
– Ты ее еще сначала напиши! – Теодор чуть ли не силой тащил за собой Игоря в противоположный угол большой залы. Он все еще не мог прийти в себя от разговора с другом детства, да и как можно успокоиться, когда при тебе оскорбили Бога -Амадея.
– Филистер! – продолжал повторять Теодор, как заведенный. – Филистер! Ему неведомы высшие миры, хоть он и считает себя поэтом. Верь мне, Ансельм, Дон Жуан – любимейшее детище природы, она наделила его всем тем, что роднит человека с божественным началом, что возвышает его над посредственностью, над фабричными изделиями, которые пачками выпускаются из мастерской и перестают быть нулями, только когда перед ними ставят цифру… Как смеет он, абсолютный ноль, сам погрязший в грехах, демонстрирующий напускную добродетель, судить Его? Вольфганга Амадея! И меня… Эрнста Теодора! Да я во сто раз чище и лучше его. Моя любовь искренняя, пусть она мучительна, но ничто не сравниться с нетерпением души, отчаявшейся в любовной тоске. Часы прекраснейших мечтаний, которые я провел вместе с Дорой, наполняли меня райским блаженством, я вдыхал лишь аромат сладострастия – цветочное море наслаждения плескало вокруг меня свои волны! И в чем моя вина? В том, что я любил и люблю замужнюю женщину? Но ведь и она меня любит. И готова бежать со мной на край света. Почему же я должен таиться свой любви?
И тут Теодор увидел Иоганнеса Хатта. Он был один, и вел, по всей видимости, какую-то деловую и очень важную для него беседу с банкиром Шпигелем, о чем-то упрашивая его.
– Вот он счастливый случай! – Глаза у Теодора заблестели дьявольским блеском.
– Сейчас я скажу ему всю правду про наши отношения с его женой. И тогда посмотрим, что он предпримет… на что решится… – Напрасно Игорь пытался удержать его, расталкивая локтями гулявши по залу гостей, тот шел напролом к ненавистному пивовару.
– А, Теодор, – заметив его, – приветливо помахал рукой Иоганнес. – Что ж вы прервали свои занятия? Я даже был вынужден нанять своей жене нового учителя музыки. Да вот и он, – с этим словами пивовар коснулся рукой, стоявшего рядом с ним высокого, модно и к тому же со вкусом одетого юноши, беседующего с какой-то дамой. Лица ее из-за широкой спины кавалера было не разобрать. Молодой человек приветливо улыбнулся, изящно отступив в сторону, и Теодор увидел ту, кого никак не ожила здесь увидеть. Это была Дора…
– Генрих Зибрандт, – протянул ему руку новый учитель музыки. Но Теодор его не слышал. Он напрочь забыл почему он здесь, зачем пришел, что намеревался сказать… Выходит, подозрения оправдались, ему нашли замену… И какую замену! Да, что и говорить: красавец-мужчина, не чета ему…
Сколько раз он думал о том, чтобы его возлюбленная сама обманула и забыла его, «какое доброе божество тогда оберегло бы меня от отчаяния», писал он своему другу Готлибу Гиппелю. Но теперь, когда это случилось, когда он действительно стал «несчастной жертвой низкого коварства» верить в это не хотелось.
– Ну и что такого, – пытался он сам себя успокоить. – Я сам виноват, перестал давать ей уроки контрапункта. А Дора, она ж такая музыкальная, талантливая такая. Сколько молодых красивых учителей музыки дают уроки юным красивым ученицам. И что ж из этого?
Но тут всех пригласили в зал. Скоро должно было начаться представление. Теодор надеялся, что великий Моцарт отвлечет его от тягостных дум и с нетерпением ждал начала. Однако зрители не спешили рассаживаться по местам, да и те, кто уже расположились в просторных золоченых креслах, обитых красным бархатом, продолжали громко разговаривать, смеяться, пить дармовое вино и шуршать завернутыми в яркие обертки сладостями. Это шуршание, тяжелые шаги припоздавших театралов, громкие разговоры, перемежающиеся еще более громким смехом, продолжились и после того, как маленький щупленький капельмейстер взмахнул смычком и оркестр заиграл увертюру.
Теодор, сердито одернул, сидящего рядом с ним мужчину, который то и дело отпускал реплики, доводя до истерического смеха своего долговязого соседа.
– Так еще ничего не началось, – продолжая глупо улыбаться, ответил тот на замечание. Теодор его узнал. Это был Михаэль Трутман – промышленник и эстет, не пропускающий ни одного культурного события города. Его витиеватые статьи ни о чем можно было частенько видеть в различных городских газетах. И даже журналах, пока те не закрылись. Несмотря на успехи в коммерции Михаэль любил посещать различные музыкальные, литературные салоны, зная, что там всегда можно бесплатно поесть и выпить хорошего вина. Впрочем, он не отказывался и от плохого, если за него не надо было платить.
– Вы так считаете? – Теодор мог бы вступить с ним в полемику, относительно того – является ли увертюра оперы началом представления, но не стал, поглощенный чарующими звуками оркестра. Правда его сильно раздражал сморщенный старикашка, который сидел через проход и прикрыв глаза мерно раскачивался, стараясь попасть в такт музыке. Когда же оркестр от пиано переходил к форте, он доставал из кружевного манжета безразмерный носовой платок и на фортиссимо громко с надрывом сморкался в него. Эту процедуру он проделывал каждый раз, как только звучание оркестра достигало апогея. Впрочем, и без старика было достаточно любителей музыки, которые делали все для того, чтобы слушать ее стало невыносимо. Теодор долго старался терпеть коллективное издевательство над Моцартом, пытаясь сосредоточиться на игре артистов. Тем более, что пели они профессионально. Особенно хороша была молодая симпатичная певичка, исполнявшая роль Царицы Ночи. Когда она запела его любимую арию: «Ужасной мести жаждет сердце» у Теодора от восторга даже слезы выступили на глазах. Но в тот самый момент, когда ее хрустальный голос достиг небесных высот, над его ухом раздался скрипучий голос Трутмана:
– Эй, человек, принеси мне еще бокал вина! – Михаэль уже заметно раскрасневшийся от излишнего употребления дармовой выпивки, привычным жестом подзывал к себе прохаживающегося вдоль рядов облаченного в красную ливрею слугу.
И тут Теодор не выдержал. Его сердце тоже жаждало ужасной мести. И не дожидаясь, когда к эстетствующему промышленнику подскочит услужливый лакей, он вцепился в его кружевное жабо и что есть мочи прокричал в заросшее густой шерстью ухо:
– Да замолчите, вы, наконец! Ваше место не в музыкальном салоне, а на базарной площади, среди таких же грязных, как вы торговок.
Промышленник опешил. Такой прыти от своего плюгавого соседа он никак не ожидал. И пытаясь оттащить его от своей новенькой шелковой манишки, стал отчитывать Теодора:
– Успокойтесь, сударь и ведите себя достойно. Это не я, а вы мешаете достопочтимой публике слушать нашего великого Амадея. – В то же время Теодор почувствовал, как кто-то сзади заламывает ему руку и пинками выталкивает из зала. Это был долговязый сосед Михаэля, репортер Маркус, по крайней мере, свои пасквили в местных газетах он подписывал именно так и с которым промышленник еще несколько минут назад так весело подсмеивался над виртуозными пассажами Памины. Маркуса не смутило даже то, что он был хорошо знаком с Теодором, но желание выслужиться перед своим новым хозяином видимо взяло верх. Игорь попытался оттащить долговязого, но тут и на него навалились двое здоровенных слуг, и поволокли к выходу.
– Ничтожный сброд, – выругался Теодор, – когда за ними закрылись двери дворца, и они оказались во дворе, больше смахивающим на регулярный сад.
– Поверь, Ансельм, я впервые метал свои перлы перед свиньями… И вот чем все это закончилось – позорным изгнанием из «Обители муз». Единственно, что меня утешает, это то, что и Моцарта не раз спускали пинками с лестницы. А он воспарил в небо. Парадокс! – Какое-то время они шли молча.
– И все же, даже после такой экзекуции я чувствую, что обладаю некоторым достоинством, – снова заговорил Теодор.– Ничего, господа, придет и мой черед!
– Конечно, придет! – подбодрил его Игорь. – Уж мне это наверняка известно….
– Слушай Ансельм, а может я дурак? – вдруг снова обратился к нему Теодор. – Ведь все вот это: и любовь, и измена, и все наши душевные муки, переживания, искания собственного я, все это уже давно было. Оно обрисовано в книгах, изданных задолго до нашего с тобою рождения. Эти книги написаны на все случаи жизни. Разве мы не узнаем в них себя в малейших подробностях, словно бы автор наблюдал за нами, а может даже сидел внутри нас и нагло там копошился… Может вся наша жизнь сплошная инсценировка чужой пьесы неизвестного автора. И мы проигрываем ее, как плохие актеры, ошибаясь, забывая слова, написанные еще много веков назад.
– Может это и чужая пьеса, – согласился Игорь, – но когда мы ее играем, мы не думаем об этом, а просто живем, и нам кажется, что все это происходит впервые. С нами…
– Пожалуй, ты прав, Ансельм. И как бы я ни уговаривал себя, что наш роман с Дорой похож на дурную пьесу, и что нам давно надо бы расстаться, все это я тут же забываю, как только вижу ее. Да, я все еще люблю, но проклятие природы лежит на этой любви. Нравственность, долг, все это пустые слова, когда любишь. И плевать я хотел на мораль, на приличия. Знаешь, что я понял сейчас: то, что нельзя быть робким. Нужно действовать! Решительно! Я не позволю ему больше меня унижать!
Они шли по длинной каштановой аллеи, в конце которой возле газового фонаря чернел силуэт из двух фигур: мужской и женской. Мужчина, довольно-таки высокий в облегающем его стройную фигуру фраке держал за руку миниатюрную даму, пышные юбки которой делали ее похожей на перевернутый цветок. Теодор узнал ее. Да и как он мог спутать ее с кем-то другим…
– Дора, – закричал он, – Дора! – И бросился в темноту…
Возвращение
– Теодор, постой! Не ходи туда! – Игорь попытался остановить друга.
– Пусть идёт, не стоит его удерживать… – раздался из темноты старческий голос.
– Кто это? – голос был очень знакомым. Похоже, Игорь уже слышал его сегодня.
И точно, из тёмной аллеи сада, забавно переступая ногами, вышел на свет тот самый старый профессор в широкополой треуголке и длинном сюртуке, с которым он сегодня совершил долгую прогулку по философской тропе…
– Не надо ему мешать. Он сам должен во всём разобраться и сделать свой выбор. – Старик тяжело вздохнул и продолжил, – хотя выбирать ему, в общем-то, не из чего.
– Почему? – возразил Игорь.
– Ну, посудите сами, возможно ли представить вашего двадцатилетнего друга, отчимом шестерых детей? Ему и одного-то не прокормить… Куда он заберет свою возлюбленную со всеми её домочадцами, когда сам скитается по углам? Где он найдёт средства на то, чтобы обеспечить большую семью всем необходимым? Даже если он и решится на столь опрометчивый поступок, то уже через пару дней будет об этом горько жалеть, а ещё через некоторое время сам сбежит от своей любимой. Впрочем, я думаю, ему хватит ума и без меня во всём разобраться. Не безумец же он и должен понимать, что жизнь людей, преданных только наслаждению без рассудка и без нравственности, не имеет никакой цены. Ему надо переболеть этой болезнью и идти дальше.
– К славе! – Игорь хотел сказать ещё что-то о том, какая участь ждёт его друга в будущем, но старик перебил его.
– И всё-таки я ему страшно завидую… Он живёт чувствами, страстями. Он не боится совершать безрассудные поступки, даже если они порицаются обществом. – Профессор снова вздохнул. – Я так не мог…
– Вы знаете, сударь, – вдруг повернулся он к Игорю, и глаза его заблестели, впрочем, может, в них просто отразился свет уличного фонаря, – когда-то, когда я был значительно моложе, чем сейчас, мне тоже нравилась одна дама. Замужняя… Очень нравилась. И она, представьте себе, питала ко мне определенные чувства. И искала встречи со мной…
– Красивая дама?
– Очень…
Игорь с изумлением смотрел на старого философа, решившего открыться ему.
– И как развивался ваш роман?
– Никак. – Старик снова вздохнул. – Я не смог переступить через свои принципы. Таков уж мой характер…
– Какой характер, какой характер! – Игорь даже перешёл на крик. – Женщина, умная, красивая, и, к тому же, которая нравится вам, ищет с вами встречи, а вы бежите от неё, прячетесь в своей скорлупе…
– Замужняя женщина… Заметьте, замужняя. Я не мог переступить через нравственный закон, он сидит во мне и связывает моё сознание. Откликнувшись на её призыв, я поступил бы безнравственно и не был бы достоин счастья.
– Господи, профессор, что вы говорите! Вы добровольно связали себя по рукам и ногам, запрятались в каменный футляр, из которого вас никому не выковырять. Вы хотя бы раз в жизни совершали какой-нибудь безумный, опрометчивый поступок? Ну, не знаю, напились, что ли, вызвали кого-нибудь на дуэль…
– Представьте себе, был однажды и пьяным, и даже участвовал в поединке…
– Что? – Игорь аж застыл от удивления. Чего-чего, а такого услышать от старого профессора он никак не ожидал.
– И кого вы вызвали на дуэль?
– Не я, меня… Некий господин Грин потребовал сатисфакции за то, что я в его присутствии нелестно отозвался о действиях британского правительства. А он, как истинный патриот своей страны, не мог мне этого простить.
– И как закончился ваш поединок? Вы его убили?
– Нет, я сказал господину Грину, что приму его вызов, но прежде он должен выслушать меня до конца. Он согласился. Дело кончилось тем, что он пожал мне руку и проводил до дому. Дуэль не состоялась.
Услышав этот рассказ, Игорь не мог сдержать смеха.
– Да, профессор, даже самые безумные поступки вы превращаете в серьёзный научный спор. И что же стало с вашим господином Грином?
– Мы стали с ним закадычными друзьями. Вплоть до его смерти. На нём я проверял все свои научные труды. Это был самый благодарный и самый лучший мой слушатель.
– Ну, что вы стоите, пойдемте. Ваш друг сейчас должен побыть один.
И они продолжили путь по аллее сада.
– Ну, как вам Моцарт? – спросил Игоря профессор.
– Я в полном восторге!
– Да? А для меня что-то нот многовато. Впрочем, я не претендую и никогда не претендовал на роль знатока музыки. Мне она чаще всего мешает думать. Я вообще люблю тишину. Да и поздно уже. А я привык всё делать в соответствии с моим расписанием. В десять часов мне уже следует отправляться в объятия морфея. Это, пожалуй, единственные объятия, которые и сладостны, и безгрешны.
– Да, кстати, вам же, наверное, негде ночевать, – спохватился старик. – Идёмте ко мне. А то вы тогда, в кофейне, так увлеклись беседой со своим новым знакомым, что я не стал вам мешать. Но теперь, быть может, вы примете моё приглашение?
– Спасибо, профессор, но я, право, не знаю…
Предложение старика было заманчиво. В самом деле, уже ночь на дворе. Куда идти? Но с другой стороны, как быть с Теодором? Может, ему понадобится его помощь?
– А завтра милости прошу ко мне на обед, – продолжал уговаривать студента профессор.
– Да я не особо разбираюсь в философии, – стал оправдываться Игорь. – Меня даже к экзаменам не допустили…
– Что так?
Игорь смутился.
– Да я как-то перед лекцией по философии на доске, шутя, написал: «Сознание – первично, материя – вторична».
– И что тут крамольного? Так считали и считают не только вы, но и Платон, и Лейбниц, и нынешние философы. Надеюсь, вам дали возможность привести доводы в пользу вашей точки зрения?
– В том-то и дело, что нет. Нашего преподавателя больше волновало узнать – кто написал крамолу на доске.
– Это сделал трус, который может только вот так, исподтишка, совершать пакости, гадить, – кричал он, нервно расхаживая по кафедре и размахивая длинными пергаментными руками. – Этот пакостник никогда не осмелится честно признаться в содеянном.
– Почему же не осмелюсь, – Игорь встал из-за стола и громко произнёс, – это написал я.
Аудитория притихла. Все знали несдержанный характер университетского «философа» и, затаившись, ждали, чем закончится неравная схватка студента с преподавателем.
– И вы утверждаете, что сознание первичнее материи? – Иван Павлович Резников (так звали лектора) прямо пылал праведным гневом и готов был сию минуту испепелить зарвавшегося студента, но ещё чего-то ждал. Покаяния, наверное. Но вместо него услышал совершенно недопустимые на лекции по материалистической философии слова:
– Да, я это допускаю, – Игорь никак не ожидал, что его, в общем-то, как ему казалось, безобидная шутка, приведёт Ивана Павловича в такое экзальтированное состояние.