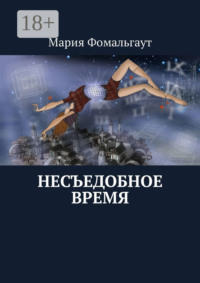Полная версия
Нота После

Нота После
Мария Фомальгаут
Иллюстратор Мария Владимировна Фомальгаут
© Мария Фомальгаут, 2018
© Мария Владимировна Фомальгаут, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-5579-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Нота После
Последняя нота.
Последняя война.
И выстрел…
Нота фа.
Нота ля.
Нота си бемоль.
И еще много-много нот.
Чахуль ищет консервы.
Неважно, какие.
Лишь бы были.
Вот так ходит по разрушенному городу, заглядывает в то, что когда-то было домами, ищет консервы. Должны быть консервы. Обязаны. Быть не может, чтобы не было.
Фа-диез, си-бемоль, вторая октава…
Он пишет мелодию.
Торопится.
Боится не успеть.
Что-то подсказывает ему, что все случится сегодня ночью, а значит, нужно поторопиться, нужно успеть.
Перо ныряет в чернильницу, падают блестящие капли, оживают ноты, фа, соль, ми-диез…
Луна заглядывает в окна, это хорошо, что луна, а то свечей уже нет.
А там война.
Где?
Да много где.
Гремят пушки.
Ну и музы, конечно, молчат, так положено.
Что-то мелькает в грохоте снарядов и огне пожарищ, что-то миниатюрное, крылышковое, порх-порх-порх… Да нет, померещилось, какое там может быть порх-порх-порх, откуда, зачем…
Ветер переворачивает страницы.
Чахуль смотрит.
Читает.
Фа-диез, си-бемоль, вторая октава…
Это не консервы, думает Чахуль, нет-нет, это не консервы. Надо идти дальше, а он не идет дальше, глупый, глупый Чахуль, почему ты не идешь дальше, почему не ищешь консервы, сказано же, консервы искать, а ты не ищешь, дождешься, свалишься без сил, не встанешь на рассвете, сам же видел таких, не переживших холодную ночь…
Чахуль разворачивает ноты.
Фортепьяно. Когда-то это было фортепьяно. Там, в углу.
Ми-бемоль. Си-диез. Фа, фа, фа, до, до-диез, третья октава.
А там война.
Где?
Да везде.
Когда?
Да всегда.
Вам все войны перечислить на планете, или как?
Они летят через дым пожарищ, уворачиваются от снарядов, машут крыльями, крыльями, крыльями…
Кто?
Нет-нет, никто пока еще не летит.
Пока еще никого не выпустили.
Он поднимает голову, прислушивается.
Показа… нет, не показалось. Помере… нет, не померещилось, так и есть, мелодия бесконечно издалека, нет, быть не может, никто не может играть его мелодию, он же её ещё не написал…
А вот может.
Играет.
Наконец, он понимает, кто игра… нет, не кто – а когда.
Он смотрит.
Ищет.
Восемнадцатый… нет, не восемнадцатый. Девятна… нет, тоже не то, двадцатый – кто-то пиликает его мелодию, но не ту, не ту, двадцать пе… нет, не то…
А вот.
Отсюда он даже видит год – две тысячи триста третий.
Си-бемоль. Фа-диез… ну а дальше, дальше, что же дальше, он беспомощно смотрит на бумагу, он не знает, что дальше.
Ми, ми, ми, соль, третья октава…
Оттуда, издалека, продолжается мелодия. Он лихорадочно записывает, он хочет задать себе вопрос, как такое возможно, почему там играют, когда он здесь еще ничего не написал. Некогда, некогда думать, – нота за нотой, строка за строкой, чернильная клякса набухает на кончике пера, он подхватывает её пожелтевшими старческими пальцами, тпру, стоять…
Что-то мелькает там, в дыму взрыва, солдат не видит отсюда, свои, чужие, целится – тут же замечает, что там такое, в пелене дыма, в испуге роняет винтовку.
Чахуль играет.
Смотрит на фото автора на пожелтевших от времени нотах, волосы зачесаны назад, нос с горбинкой, глаза чуть раскосые… вот он сидит при свете луны, выводит ноту за нотой, до-диез, фа-диез, си, ля-бемоль, до на октаву ниже… а дальше что? Что дальше, что там дальше, глупый, глупый Чахуль? А дальше ничего, а дальше ноты сожжены дотла, ничего нет. Чахуль вопросительно смотрит на человека в свете луны, человека почти не видно из темноты, ну да ничего, ничего… В поле зрения сам собой бросается календарь, Чахуль смотрит на дату в комнате, залитой лунным светом, переводит взгляд на дату смерти на обожженных страницах – ледяная игла вонзается в сердце.
До.
Ре.
Ми.
Фа.
Третья октава.
До-диез.
Там, в комнате, залитой лунным светом, тоже вонзается в сердце ледяная игла – но не отпускает, держит. Он уже понимает, что произойдет в следующий момент, он торопится, он пишет ноты, вкривь, вкось, клякса, клякса, клякса, чер-р-рт, скорее, скорее…
Хлоп!
Ноты взлетают, потревоженные хлопком ладони, до, си-диез, ля-бемоль, вторая октава…
Летят —
Тысяча шестьсот сколько-то там.
Тысяча семьсот.
Тысяча восемьсот.
Вехи.
Вехи.
Вехи.
Тысяча восемьсот двенадцать – ноты падают, подстреленные пулями.
…он снова пишет ноты, вкривь, вкось…
…ледяная игла вонзается в сердце…
Вехи.
Вехи.
Адмирал хочет скомандовать – а-а-агон-н-нь – смотрит единственным глазом на летящие до-диез, сигналит солдатам, чш, чш, дайте им пролететь…
Вехи.
Вехи.
До-диез.
Си-бемоль.
Тысяча девятьсот семнадцать – ноты врываются в облако ядовитого дыма, падают замертво.
…ноты, вкривь, вкось…
…ледяная игла…
…пол уходит из-под ног…
Хлоп!
Летят ноты…
…вехи…
…генерал видит летящие ноты, делает знак – не трогать.
…вехи…
…ноты вспыхивают в атомном пожарище в японском городке…
…ледяная игла…
…мир меркнет…
…хлоп!
…ноты летят…
…вехи…
…вехи…
…вехи…
…генералы командуют – отбой.
До-диез.
Си-бемоль.
Ля-минор.
Фа.
Третья октава.
Последняя нота проносится над последней войной.
Выстрел.
Пуля летит.
Ноты хлопают крыльями, садятся на бумагу, до, ре, ми, фа-диез, до-бемоль…
…а что дальше, дальше-то что, глупый, глупый Чахуль, пальцы замирают на последней ноте, которой нет…
…тишина…
…пальцы ложатся на клавишу…
…последняя нота…

Не стена для Ку
Это не стена.
Ку подходит к стене, говорит себе:
Это не стена.
Трогает стену – рука проходит насквозь. Похоже на поток воды, думает Ку, тут же отгоняет от себя эту мысль. Ку хочет войти туда, за непрозрачную стену, за то, что ему кажется стеной – но боится.
Ка подходит к стене, просачивается внутрь. Ку все еще сомневается, а можно ли ему туда, по ту сторону стены.
Все-таки заходит.
Оторопело смотрит на пепелище от костра, на обломки костей. Ку бросается назад, хочет принести швабру, тут же кто-то вырывает швабру из рук Ку, не трогай, не трогай, не сметай, нет, нет.
Ку понимает: так надо.
А там еще стена. За пепелищем.
Ку уже знает, что делать, Ку проходит через стену, которая не стена.
Молодая женщина трет шкуру убитого медведя, поднимает голову – что-то привлекло её там, в стороне от хижин. Идет туда, быстро, размашисто, проходит мимо Ку, не видит, не замечает, останавливается над обрывом, на дне которого ревет спрятанный в тумане водопад. Ку смотрит на песок, который осыпается под ногами женщины, хочет окликнуть её, срывается с места, бежит к девушке, чтобы схватить за руку – пальцы проходят сквозь плечо, женщина падает с обрыва, отчаянно визжит, исчезает в тумане. Ку оборачивается, Ку понимает, что сейчас придется что-то объяснять, что это не он столкнул, он помочь хотел – люди бегут мимо него, не видят…
Ку хочет спросить, что это было.
Не спрашивает.
Ке кладет на пол берестяные грамоты, тащит обугленный сруб, бесформенные черепки, говорит:
– Линза.
Ку не понимает, где линза, почему линза, не видит никакой линзы.
Ке складывает в соседней комнате обломки костей, говорит:
– Линза.
Ку уже не спрашивает, почему.
Линза так линза.
Ке складывает кипы документации в одной из комнат, Ку ему помогает. Спрашивает:
– А это тоже линза?
Ке кивает:
– Тоже.
…в одной из комнат…
Ну да.
Ку называет их комнатами.
То, что между стенами.
Ко несет в комнату свет далеких квазаров. Складывает.
Поясняет Ку:
– Линза.
Показывает Ку то, что за линзой: вспышка Большого Взрыва.
У меня есть шлем.
Ну, у меня, конечно, и одежда есть, и сандалии, и меч – но в то же время нет.
А вот шлем есть.
Точно есть.
Оглядываюсь.
Спрашиваю себя, что я делаю здесь, когда я родился через двести лет после этой битвы.
Воины смотрят на меня, тоже не понимают, кто я, откуда я, зачем я. Люди направляют на меня копья, стрелы, кричат – убирайся, я развожу руками, мне убираться некуда, не виноват я, что меня сюда ткнули.
Мимо проходят люди в странных одеждах – я знаю, это они бросили меня сюда, я кричу им – не так, неправильно, верните меня домой – они не слышат.
Не слышат.
Ку смотрит в пустую комнату, спрашивает:
– А здесь ничего нет?
Ему отвечают:
– Ничего нет.
Ку проходит комнату-линзу, заглядывает дальше: опять пустота.
– А там тоже ничего нет?
Ки отвечает:
– Ну, конечно, в линзе же нет ничего, мы же только через линзу видим.
Ку соглашается, через линзу так через линзу.
Ку смотрит на стену после сегодняшней даты. Что-то подсказывает Ку, что там, за этой стеной тоже что-то есть. Ку трогает стену, стена пропускает Ку в коридор, за стенами которого комнаты, комнаты, комнаты – Ку их не видит, но знает, что они есть. Входит в неприметную комнатенку, оторопело смотрит на паровой котел. Проходит линзу, разглядывает причудливые летучие города, не понимает…
– А что за города там?
Кю не понимает:
– Где там?
– Ну, там… за датой сегодняшней.
Кю идет за Ку, смотрит на комнату-линзу, смотрит на паровой котел, в гневе выбрасывает котел, который взрывается где-то там, в тумане, Кю тащит в комнату-линзу что-то причудливое, футуристическое, переводит дух.
Ку снова заглядывает за стену за линзой, смотрит на межпланетный корабль, не видит, но догадывается – на Марс.
Хозяин подзывает Ку.
Не словами подзывает, как-то по-другому.
Ку слушает.
Хозяин велит – иди и проверь все комнаты-линзы там, за сегодняшней датой.
Все-все проверь.
Все, что в глубокой древности туда понакидали, все-все выбрасывай, новые прогнозы туда ставь.
Ку ставит новые прогнозы. Смотрит на старые, и…
…прячет в тайнике.
Клич по всей конторе
Найти Ку, и прогнозы, которые он спрятал, тоже найти.
И уничтожить.
Прогнозы уничтожить.
И Ку тоже.
Ка сердится, Ка хмурится, что ты там еще натворил.
Ку молчит, а что тут скажешь.
Ладно, говорит Ка, работать пошли. Идет работать, тащит за собой Ку, проходит мимо объявления, разыскивается Ку, столько-то за поимку – делает вид, что не замечает.
Идут в сегодняшнюю дату, выкладывают в комнату-линзу новости, новости, новости, газетные статьи, репортажи…
Ка смотрит за стену за комнатой-линзой, качает головой: нет, не сходится, ерунда какая-то получается, ты сам посмотри, глупый Ку, ты посмотри, глупый, глупый Ку, разве это на наш сегодняшний день похоже, разве это настоящее наше? Глупый Ку, что ты принес, откуда ты вообще эти желтопресные газетешки притащил, что ты за человек такой. Раз не умеешь ничего толком делать, так сам иди теперь и смотри лично, что в современном мире делается. Что встал, иди-иди, смотри-смотри, потом расскажешь, что там и как.
Ку идет.
Смотрит.
Рассказывает.
Делает реальность уже безо всяких там линз, хотя нет, есть одна линза – сам Ку.
А в конторе переполох.
Такой переполох, что переполохее некуда.
Еще бы.
Проверили реальности, так половина и близко не настоящие, напридумывали черт знает что, куда вы этот шлем сунули, куда, я спрашиваю? А куда надо было? Вот то-то же. Так что давайте, скорей-скорей ищите отбракованные реальности, они сейчас ой как нужны… Что значит, нет, что значит, стерли, да не морочьте вы мне голову, да никто ничего не стер, это Ку припрятал, это Ку надо найти, он скажет, где…
Все с мест повскакивали.
Все ищут Ку.
Ку-ку.
Ку-ку.
А нету Ку.
А вот он, Ку.
Идет, глазами хлопает, ничего понять не может, кто звал его, зачем звал. И хозяин к Ку спешит, давай, доставай реальности, где припрятал.
– А вот припрятал.
– Вот и хорошо, вот и доставай… Постой-постой, ты где был-то?
– А вон, реальности проверял.
– К-как проверял?
– Ну… ходил в них…
– Что значит, в реальности ходил? В реальности? Во все?
– Во все.
– Или только в сегодняшний день?
– Не… во все…
– Взять его.
Это хозяин всем говорит. И Ка, и Ко, и Ке, и Ки, и Кю, и Кя, и…
…а Ку не говорит.
Нет Ку.
Взять его.
Легко сказать – взять.
Ищи-свищи…

У
– Жить-то можно? – спросили мы.
Спросили ни у кого. Спрашивать было не у кого. Нас окружали миры, настолько непонятные, что с ними нельзя было не только говорить – подойди к такому миру, нарисуй им треугольник, или дважды два – и то не поймут.
– Можно, – ответили нам.
Мы даже не поняли, кто ответил. Миров было слишком много, и все они были слишком разные.
– Что с нами будут делать? – спросили мы.
Этого никто не знал. Мы появились совсем недавно, то ли за шесть дней, то ли за шесть триллионов веков, то ли еще когда. Мы, живые, планеты, окутанные жизнью, покрытые лесами, в которых прятались дикие звери, и кто-то беспокойный и отчаянный первый раз брал в руки палку.
Чуть погодя мы увидели их.
Кого их?
Можно было назвать их создателями, и это было бы неправильно. Можно было бы назвать их нашими господами, но это тоже было бы неправдой. Можно было назвать их хозяевами, но это тоже было бы неправдой. Можно было бы сказать…
И все это было бы неправдой.
Они были…
Они просто были.
Мы даже не увидели их толком, мы просто почувствовали их, когда они коснулись наших рулей.
Что?
А вы что, не знали, что у планет есть руль?
А он есть. То есть, вы-то до него не доберетесь, где это видано, чтобы простые смертные до руля добирались. Ага, щас, размечтались, вот так, доберетесь вы до руля, раз повернули – и свалились на вас несметные сокровища, два повернули – и заняли место президента планеты, три…
Не дождетесь. Если сами на планете живете, до руля не доберетесь. Никогда.
А вот они добирались до руля. Господа. Хозяева. Называйте, как хотите. Осторожно трогали руль, осторожно переключали скорости, пробовали нас – наши планеты – на прочность.
Нам было боязно.
Нам – только что созданным людям на только что созданной земле – было боязно.
– Жить-то можно? – спросили мы у других миров.
– Можно, – ответили нам.
– Они-то нормальные?
– Нормальные, – ответили нам, – они своё дело знают… не первый день у руля стоят. Да сами посмотрите…
Мы сами посмотрели. Посмотрели, как хозяева садятся за руль, осторожно поворачивают тумблеры, жмут на педали скорости. Миры медленно сдвигались с места, шли по своим орбитам, всё набирая скорость, от рождения к развитию, от первого понимания самих себя, к созиданию, от первого дня творения к чему-то недостижимо прекрасному, по проторенным невидимым рельсам.
– И нам такого дадут?
Над нами посмеялись. Ха, дадут, это не вам дадут, это вас ему дадут. Обкатывать.
Мы ждали, когда придет тот, кто сядет за наш руль, кто поведет нас через века и века. Мы уже видели, как ловко господа правят нами, как уверенно держат руль…
Надежды кончились.
Когда на нас повесили табличку – У.
Нестиранный дворец
Прачка дворец сожгла.
Вот ужас-то какой.
И все на прачку смотрят, и головами качают, осуждают, значит – ох, нехорошая какая, шуточка ли дело, целый дворец сожгла.
И прачка смотрит, слезами заливается, не виноватая я. Да как это не виноватая, виноватая и есть, вот растяпа-то…
Прачка говорит: я не виновата. А её никто не слышит, она уже триста лет как умерла.
И тут министр выходит и говорит:
– Не виновата она.
Но министра тоже никто не слышит, даром, что он не просто министр, а целый премьер-министр.
Все равно не слышит никто. Потому что он уже полвека как умер. И никто-никто его уже не слышит.
Дрожит земля.
Город дрожит.
Небо дрожит, гнется под тяжестью самолетов.
Министр… да не министр, а целый премьер-министр – смотрит в раскаленное небо. Кто-то окликает его, кто-то говорит прятаться под землю.
Люди боятся неба, люди под землю прячутся.
Министр (целый премьер-министр) замирает, останавливается, вроде дворец, да нет, быть не может здесь никакого дворца, показалось, померещилось, а нет, не померещилось, и правда, дворец…
– Ай, ах!
А это еще что… а это прачка, а вот это что, вот она, бадью с водой тащит, а тут министр, да не просто, а целый премьер-министр, откуда взялся, только что не было, а тут на тебе, стоит на дороге, и небо дрожит под тяжестью чего-то стального, раскаленного, небо горит… Вот прачка бадью с водой и…
– Ай, ах!
Министр (целый премьер-министр) вежливо приподнимает шляпу:
Ничего страшного.
Ну и дальше там что по протоколу полагается, прекрасная погода сегодня, и всё такое.
Прачка в замке белье стирает.
Это она может.
Премьер-министр смотрит на карту, строит планы.
Это он тоже может.
Туристы ходят, смотрят на город.
И это они могут.
А прачке холодно, еще бы не холодно, зима все-таки.
А вон министр. Идет куда-то со своими людьми, волнуется. Ну, еще бы не волноваться, небо горит и дрожит.
И прачку видит. И людям своим кивает, не поленитесь, налейте даме чашечку кофе, и чего у нас еще есть. Люди в растерянности, да как так, да нельзя же так, мы же когда – вот сейчас, а она когда – триста лет назад, или сколько там. Министр (целый премьер-министр) не понимает, почему нельзя, где написано, что нельзя, люди смотрят – и правда, нигде не написано, значит, можно. И прачке кофе подносят, прачка пробует – ух, гадость – ничего, виду не подает, как такое господа пьют, а вот хлеб ничего, знатный хлебец, и сыр знатный, всю жизнь бы ела…
– А что у вас случилось?
Это прачка у министра спрашивает. Видит же, случилось чего-то, небо огнем горит…
Он только руками разводит, не положено людям будущее знать.
Прачка больше не спрашивает, да правда что, чего тут спрашивать, кто она, и кто он, нечего прачке в такие дела соваться, её дело белье во дворце стирать.
– Враги в городе.
Это министру говорят.
Вот так.
Враги.
В городе.
Скоро здесь будут.
Министр под землю идет речь готовить, мы все как один, и все такое.
Прачка смотрит на министра, он ей два пальца показывает, так лучники показывают, что есть у них пальцы, чтобы из лука по врагам стрелять.
Враги приближаются.
Видят дворец.
А убежище министра не видят.
Враги во дворец заходят, лучники по врагам стреляют, только что им лучники, у врагов такое оружие, что лучникам и не снилось.
Вон они, лучники, все лежат. Кровь стекает со ступеней дворца.
Враги заходят, повару велят ужин нести, чужеземный воевода прачку за грудь щиплет.
Темнеет.
Прачка ждет.
Враги в зале сидят, вино пьют, прачка белье вешает, близко-близко к огню…
– Файр! Файр!
– Фойер!
Дворец пылает.
Враги бегут.
Министр (целый премьер-министр) своим знак дает, стреляйте.
Падают подстреленные чужеземцы.
Целый премьер-министр прачке снова два пальца показывает. Тает в тумане дворец, расходятся, расползаются времена, премьер думает, надо бы прачку сюда, вон пусть хоть… э-э-э… полы моет… А поздно, поздно, разошлись времена, разъехались…
Ну вот, а вы говорите, прачка, прачка… И туристы ходят, говорят, прачка, прачка. А премьер возражает, что прачка, прачка. А прачка-то… а и не знает никто, не слышит никто, она же давным-давно умерла. И премьера не слышит никто, он же давным-давно умер. И туристов никто не слышит, они тоже давным-давно умерли, погасшее солнце смотрит на руины мертвого города.

Встать, суд идет…
Умираю.
То есть, еще не умираю. Но сопротивляться уже не могу. Если с опор скинули, это все, тут хоть как крутись, обратно на опоры не встанешь. А не встанешь, так и по звездам не сориентируешься, не зарядишься светом далекой звезды, там и смерть…
Это они все. Кто, они? Не знаю. Маленькие, юркие, опрокинули меня, сбили с опор, вертятся, грызут меня, кусают, прокусить не могут, я-то каменный, верещат – кьюрр-р-р, кьюр-р-р, чего кьюрр-р, вы говорите нормально, что хотите, я так не понимаю…
Не говорят. Не могут. Ну еще бы, где это видано, чтобы звери говорили.
И обидно так. Ладно бы в бою погибнуть, за мир, за вселенную, а тут от зверья какого-то…
А тут звери разбежались.
Как-то все, разом. Это совсем не к добру, если звери разбегаются, значит, учуяли что-то такое, от чего только и остается, что со всех ног бежать.
Что-то…
Главное, я на опоры встать не могу, убежать. А оно идет. Приближается. Тень от него падает, большая тень, длинная, тусклая, ну еще бы, звезда за тучами, чего ради тень яркая будет…
И ко мне наклоняется. Главное, я не понимаю, чего ради ко мне наклоняется, сожрать, что ли, хочет, да вроде бы и не сожрешь меня, каменный я. Или нравится, что блестит, это бывает, сейчас унесет меня куда-нибудь в свое гнездо, где бриллианты и серебряные ложки….
Он хватает меня длинными конечностями. Жуткий, нескладный, непонятно как держится и не падает.
Смотрит.
Что-то переворачивается в душе, только сейчас понимаю, что он смотрит. Вернее, как он смотрит. Только сейчас понимаю, что вижу взгляд не животного, не дикого зверя, вижу осмысленные глаза, думающие глаза…
Не понимаю.
Не верю себе.
Здесь, в царстве смерти и погибели, на умирающей земле – живые, думающие глаза.
Пробую связаться с ним, проникнуть в его сознание. Он чувствует. Отвечает. В каком-то странном порыве опускает меня на песок, начинает чертить на песке треугольники, втолковывать мне, что квадрат большей стороны равен двум квадратам меньших сторон…
Ласково касаюсь его сознания. Понял, понял…
Одного только не понимаю, откуда здесь, на умирающей земле оказалось что-то мыслящее…
Так я увидел его впервые. Кого его? Не знаю. Перебираю кристаллы памяти, сжимаю один, помеченный – наша первая встреча. И дата. И подпись моя, записано верно.
– Встать, суд идет!
Встаем. Все. Подсудимые тоже встают, бесплотные, бестелесные, вспархивают над площадкой. Еще стараются казаться счастливыми и беззаботными, но уже чувствуют, что дело пахнет порохом.
Все они так… поначалу.
– Расскажите о себе, – прошу я.
Один из них, кажется, главный, начинает рассказывать, как дивно они жили на блаженной своей земле, где ничего не омрачало их безмятежного существования, лишь только легкая печаль иногда касалась безоблачного счастья…
– Расскажите о развитии вашей цивилизации.
Он смущен. Они знают о своей цивилизации слишком мало, чтобы что-то рассказать, их история уходит в прошлое, такое глубокое, что сама вселенная не помнит этих времен. Они пили радость из лучей далекой звезды, и купались в любви, которую источала приютившая их земля…
Наблюдатели оторопело смотрят на меня, чего ради я сужу их, таких безмятежных, таких прекрасных…
– Как вы поступали с болью, ненавистью, страданиями?
Главный разводит призрачными руками, разве может в нашем идеальном мире быть боль и ненависть…
Одинокая звезда на моем столе вспыхивает красным. Лжец, лжец. Мягко предупреждаю подсудимого, что если еще раз обманет, на помилование может не рассчитывать.
– Что вы делали с болью и ненавистью?
Подсудимый признается. Да, сбрасывали на обратную сторону планеты. В подпространство.
– Как давно вы этим занимались?
– Из поколения в поколение. Всегда. Сколько себя помнят.
– Вы знали, что есть лимит зла и ненависти, после которого планета взорвется?