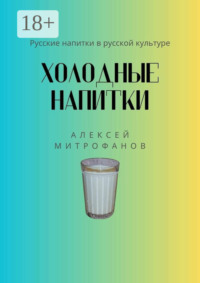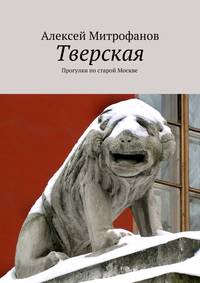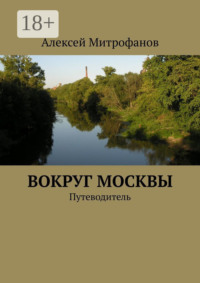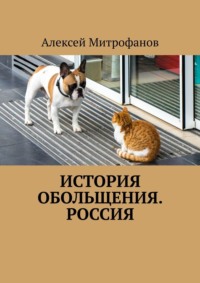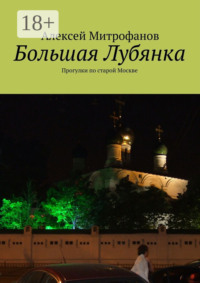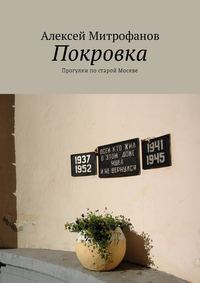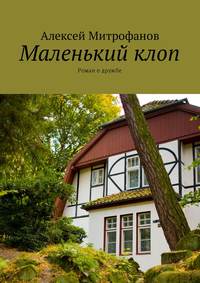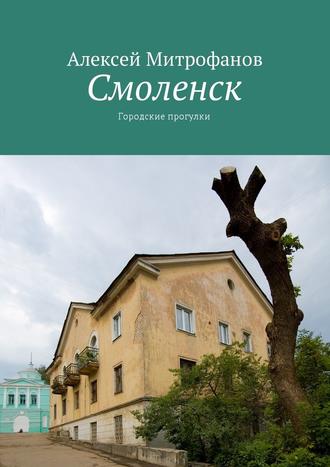
Полная версия
Смоленск. Городские прогулки
Правда, автор «Бедной Лизы» был, по своему обыкновению, чрезмерно романтически настроенным. Современник же этого события, гетман Жоклевский рассказывал: «Когда уже все нужное таким образом было приготовлено, в полночь Каменецкий приступил со своей стороны к стене, и потихоньку взлезали на оную посредством лестниц, влез и сам Каменецкий, на стене не было кому и приметить их; и когда уже взошло наших большое количество и стали расходиться по стенам и башням, тогда показалось только малое число москвитян при воротах Авраамовских; они хотели было защищаться, но, увидев большое число наших, бросились бежать вниз. Немецкая пехота со своей стороны взлезла также на валы почти в одно и то же время; но там, в недальнем расстоянии, находился сам Шеин с несколькими десятками человек, как бы между пробитою стеною, чрез которую влезли немцы, и, приметив их, начал перестреливаться с ними. Но услышав пальбу в той стороне, где был Каменецкий, пришел в беспокойство и поспешил зажечь порох, подложенный под помянутый свод. И в самом деле зажженный им порох взорвал большой кусок стены, так что проломом сим открылся довольно удобный вход в крепость, которым и вошел маршал с теми, кои при нем находились…
Огонь достигнул до запасов пороха (коего было достаточно на несколько лет), который произвел чрезвычайное действие: взорвана была половина огромной церкви (при которой имел свое местопребывание архиепископ) с собравшимися в нее людьми, которые неизвестно даже куда девались, – разбросанные останки как бы с дымом улетели. Когда огонь распространился, многие из москвитян, подобно как и в Москве, добровольно бросились в пламя за православную, говорили они, веру. Сам Шеин, запершись в одной из башен, с которой, как сказано, стреляя в немцев, так раздражил их, убив более десяти, что они непременно хотели брать его приступом; однако не легко бы пришлось им это, ибо Шеин уже решился было погибнуть, но находившиеся при нем старались отвратить его от этого намерения. Отвратил же его, кажется, от сего больше всех бывший с ним – еще дитя – сын его, и так он приказал громко звать Каменецкого, который когда пришел и удалил немцев, весьма раздраженных, коим по сей причине не доверял Шеин, сей последний вышел к нему с сыном и со всеми при нем находившимися».
То есть, трагедия была, люди погибли. Но не так красиво, как хотелось бы Карамзину.
* * *
Современный собор заложен был в 1677 году, а освящен – спустя 63 года. Вскоре после этого Смоленск был вновь захвачен европейцами, на этот раз Наполеоном. Историк П. Никитин сообщал о посещении Бонапартом главного храма города Смоленска: «7 августа он отправился в собор. Войдя туда с покрытой головою, он был поражен великолепием и торжественностью храма и снял шляпу, что сделали и все окружавшие его… Ужасна была картина, представившаяся Наполеону в храме Божьей Матери. Там искали убежища не успевшие спастись из города и лишенные крова. Но никому из страдальцев не простер он руки помощи… Только бросил на несчастных свирепый взгляд и, уходя, приказал поставить к собору часового, чрез что храм этот уцелел от разорения».
Говорят, при отступлении французы позабыли часового – его сняли с поста только русские солдаты, вошедшие, спустя несколько месяцев, в освобожденный город.
Тогда же были вынуты и сочтены личные вещи жителей Смоленска, спрятанные для надежности в соборе. Список получился жалкий: «Ряска суконная темноватая под волчьим мехом, штука затрапезы, черный халат, простыней парусиновых три, одеяло суконное под бумагою, мешок сурового полотна с разною одеждою, енотовый мех, две маленьких подушки, две перины: на одной наволочка – тиковая, на другой – простая выбойковая ветхая, две подушки, на коих выбойковые наволоки, старинный фрак зеленый ветхий, две шляпы пуховые ветхие, мешочек разного серебряного лому, фаянсовых тарелок шесть, блюд оловянных десять, тарелок оловянных семь, сервизов оловянных семь, из коих пять с крышками, а две без крышек, оловянный слиток, старый оловянный чайник, подсвечников медных четыре, желтой меди самовар, сахарница жестяная, солонка оловянная, чайных блюдец два, медная кастрюля, две медных яндовы, кои взяты в архиерейский дом, двое стенных деревянных испорченных часов, два зеркала, наволока белая большая завязанная, узел, навязанный в шелковом платке, сундук окованный и запертый, с темным ковром, рябая тиковая завязанная наволока, узел, навязанный в старом желтом одеяле, мешок сурового полотна зашитый, два мешка: один рябой, а другой белый, завязанные, наволока белая с перьями, курта зеленого английского сукна, голландское покроенное сукно, бекеш на смушечьем меху суконный ветхий, сюртук суконный ветхий, андарак суконный штофовый, кафтан голубого сукна, камзол зеленого сукна, халат камлотный зеленый, тулуп ветхий нагольный, сизогарнитуровый женский халат, шапка женская старой парчи, да образ Божией Матери любастровый позлащенный».
Вот и все, да несколько десятков книг.
* * *
Дореволюционные издания утверждали: «Смоленский Успенский кафедральный собор принадлежит к числу знаменитых и величественных храмов нашего отечества. Он служит лучшим украшением города Смоленска, а вместе с тем и самою дорогою его святынею».
Нечто подобное значится и в современных изданиях. Но разница есть, и немалая. До революции этот собор был одним из общественных центров Смоленска. Там, например, проходили такие события: «Вчера, 19 февраля (1904 года – АМ.), по случаю годовщины освобождения крестьян от крепостной зависимости, в кафедральном соборе совершено преосвещеннейшим епископом Петром благодарственное Господу Богу молебствование в присутствии представителей административных и общественных учреждений города и массы народа. Занятия в учебных заведениях, а также в некоторых административных и общественных учреждениях города были отменены».
Сегодня ничего подобного представить невозможно. Не удивительно – ведь новая жизнь и собора, и всей Соборной горы как началась сразу после революции, так и продолжалась до недавних пор. Жизнь же тут была самая что ни на есть разнообразная, и чаще всего к церкви не имеющая никакого отношения. В частности, геолог Д. И. Погуляев вспоминал: «В течение 1921—1923 гг. я служил в ЧОНе – частях особого назначения в должности командира роты. Штаб ЧОНа размещался в помещениях Соборного двора. В моей роте состояли коммунисты – преподаватели, студенты университета. Письмоводителем (писарем) моей роты был Розенгольц. Брат его (старший) в то время был членом президиума губисполкома. Командиром нашего полка был Шереметьев (имя и отчество не помню). Почему-то отношения у нас с ним были довольно близкие. Я бывал у него на квартире. Жена его, красивая, женственная, добрая женщина, как-то неожиданно заболела психически: отказалась от пищи и умерла. Мужу она говорила, что не имеет права есть, так как не работает. Шереметьев очень переживал ее смерть. Сам он раньше служил в гвардейских частях. Какова его судьба в дальнейшем, не знаю.
Занимался я военным строем, насколько помню, не каждый день. Во время этих занятий я хорошо познакомился с ректором университета В. К. Сержниковым. Это был умный мужчина, хороший организатор. К нему и преподаватели, и студенты относились с уважением».
Осуждать ли геолога за то, что принял новые законы жизни, вторгся в помещения Соборного двора со своим строем, со своей чуть ли не светской жизнью в окружении приятных, видимо, людей, в том числе чоновца Шереметьева, жена которого не выдержала лозунга «кто не работает, тот не ест»?
Вряд ли.
Он ведь тоже жертва.
* * *
Главная святыня собора – разумеется, икона Богоматери, установленная в старом здании еще первоначальным храмоздателем, Владимиром Мономахом. Весьма ценится еще и плащаница, сделанная в 1561 году для московского Успенского собора. Оттуда плащаницу в 1812 году при отступлении стащили доблестные воины Наполеона. Но до Франции не довезли – обоз с награбленными ценностями был отбит отрядом атамана Платова. Все имущество благополучно вернулось в Москву – за исключением плащаницы, подаренной Смоленску за особые заслуги в войне 1812 года.
Краевед С. П. Писарев восхищался шедевром: «Служа образцом женского художественного рукоделия в княжеских теремах, по чистоте отделки и необыкновенной трудности работы, по справедливости, считается драгоценной редкостью».
Словом, не было бы для Смоленска счастья, да несчастье помогло.
* * *
А еще этот собор чуть было не вошел в художественную литературу – в классику, в роман «Война и мир». Лев Толстой писал в черновике: «Алпатыч, только что рассвело, пошел к собору и в соборе нашел не спящий народ. Против Смоленской божьей матери, не переставая, по очереди служили молебны. Отслужив молебен и за себя, Алпатыч вместе с знакомым купцом вошел на колокольню, с которой, как ему говорили, видны были французы. Французы ясно видны были за Днепром. Они все двигались и подходили. Еще не успел Алпатыч слезть, как началась канонада за Днепром, но в город не попадали ядра.
«Что же это будет?» – думал Алпатыч, ничего не понимая и возвращаясь к дому».
А потом Толстой подумал – да так и оставил эту часть в черновике.
* * *
Неподалеку от собора находилась семинария – духовное образовательное учреждение, построенное здесь в 1891 году.
Семинария вышла внушительной. Современник писал: «Выстроенное здание бросается каждому своей грандиозностью. Величественно высясь над Спасской площадью, оно царит над целой частью города – его далеко видно за городом, особенно когда вы подъезжаете к Смоленску со стороны Орла и Москвы».
Здесь, среди прочих, обучался знаменитый на весь мир фантаст Александр Беляев – писатель, о котором сам Циолковский говорил: «Из всех известных мне рассказов, оригинальных и переводных, на тему о межпланетных сообщениях роман А. Р. Беляева мне кажется наиболее содержательным и научным».
Речь шла о романе под названием «Прыжок в ничто», в котором с поразительной достоверностью описывались ощущения планетолетчиков во время перелета.
Правда, широкому кругу читателей Беляев скорее известен романом «Голова профессора Доуэля». Однако, немногие знают, что это произведение в какой-то степени автобиографично. Сам Александр Романович об этом рассказывал: «Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать. Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни „головы без тела“, которого я совершенно не чувствовал… Вот когда я передумал и перечувствовал все, что может испытать „голова без тела“».
Когда будущий писатель обучался в здешней семинарии, он даже не подозревал, что всем его честолюбивым замыслам придется рухнуть из-за страшной болезни – костного туберкулеза. Он говорил: «Утратив тело, я утратил мир, – весь необъятный, прекрасный мир вещей, которых я не замечал, вещей, которые можно взять, потрогать, и в то же время почувствовать свое тело, себя. О, я бы охотно отдал мое химерическое существование за одну радость почувствовать в своей руке тяжесть простого булыжника!
Осязание – это единственная для меня возможность почувствовать себя в мире реальных вещей…»
А журналист из газеты «Большевистское слово» описывал атмосферу квартиры фантаста: «Скромно обставлен кабинет. Полупоходная койка. По стенам картины с фантастическими изображениями. Мерно гудит ламповый радиоприемник. Настольный телефон и книги… книги… книги… Ими завалены стол, этажерка, шкаф и до потолка вся соседняя комната-библиотека. На койке лежит человек с высоким лбом, лохматыми черными бровями, из-под которых смотрят ясные проницательные глаза. И кажется, что это один из героев книги „Звезда КЭЦ“ в своей межпланетной обсерватории, откуда в специальные телескопы он видит, изучает жизнь далеких планет».
Незадолго до этого вышел нашумевший очерк Михаила Кольцова «Мужество» – о другом писателе, Николае Островском. Автор «Слова» явно подражал своему более маститому коллеге. Почва для подражания была – Беляев, страдающий тяжелым заболеванием позвоночника, лишь в периоды нечастых облегчений мог вставать с кровати, да и то с большим трудом. Смерть же Беляева была еще более жуткой. Умер он в Царском селе, в 1942 го-ду, во время оккупации. От голода, и будучи практически бездвижным.
* * *
При новой власти в бывшей семинарии расположился штаб Белорусского округа. Рядом оборудовали специальную военную гостиницу – для высших армейских чинов. Здесь перед Великой Отечественной войной довелось пожить маршалу Жукову. Его дочка Эра вспоминала: «Переехали в Смоленск, где тогда находился штаб округа. Квартиру получили во флигеле большого красивого дома, глядевшего на сквер, в котором жили семьи командования округа… Папа, как всегда, был занят на работе. Мама «крутилась» с нами… Мне уже было десять лет, и я помогала маме, чем могла.
Напротив, через сквер, находилась школа №7, в 3-м классе «Б» которой я проучилась неполный учебный год… Там же я была принята в пионеры. Это событие в моей жизни было отмечено семейным «походом» в фотоателье… Мы с сестрой одеты в традиционные по тому времени матроски. На мне пионерский галстук со значком. Отец, немного пополневший, в серой коверкотовой гимнастерке, с двумя орденами и медалью на груди, с двумя ромбами. Виски немного поседевшие, но глаза по-прежнему молодые».
Казалось бы, простая жизнь обычной советской школьницы.
* * *
Выше по Большой Советской улице, по той же левой стороне располагается Троицкий монастырь, в котором до сих пор базируется уникальный музей льна. Лен издавна считается традиционным промыслом смолян. Сырье это привередливое, требует старания и навыков. Недаром о льне сложено огромное количество всяческих поговорок, присказок, пословиц. «Рожь – наша матушка, лен – батюшка». «Пока лен до дела доведешь, каждый стебель семь раз в руках переберешь». «Лен любит поклон». «Не домнешь за мялкой, вспомнишь за прялкой». И так далее.
Смоленский поэт Николай Рыленков воспевал лен в своем стихотворении «Ходит по полю девчонка»:
Вешним солнцем окроплен,
Прорастает в поле лен.
Ходит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблен.
Впоследствии Марк Фрадкин написал на эти строки песню. Так смоленский лен прославился на всю страну.
* * *
На противоположной стороне (Большая Советская, 8) – старое здание Сельскохозяйственного института. А до революции здесь размещалась женская Мариинская гимназия – одно из самых популярных в городе учебных учреждений. Главной ее задачей было «сообщить ученицам то религиозно-нравственное образование, которое должно требовать от каждой женщины, в особенности от будущей супруги и матери семейства». Среди дисциплин – русский язык, закон Божий, чистописание, арифметика, география, история и рукоделие. За дополнительную плату предлагались рисование, танцы и французский язык.
Еще раньше, до 1861 года находилась тут гимназия казенная, мужская, преобразованная в 1804 году из менее престижного учреждения – народного училища. Но в год освобождения крестьянства для нее выстроили новенькое здание, и юные смоляне уступили место девушкам.
А во времена Петра Великого здесь находился магистрат, в котором, кроме всего прочего, располагались пыточные камеры и государева казна.
* * *
Несколько дальше (дом №12) стоит затейливый Дом книги, бывший дом купца Павлова, построенный во второй половине девятнадцатого века. Это один из старейших книжных магазинов государства, он был открыт сразу же после революции, в 1918 году. А путеводители по городу времен социализма радостно вещали: «С утра до вечера к Дому книги, что на Большой Советской, подходят автобусы, книжные автолавки, тяжелые грузовики с контейнерами. На машинах короткие надписи: „Книги“, „Смоленский книготорг“. За день оборачивается по нескольку вагонов книг… В магазине-распространителе функционируют три отдела: внемагазинной работы, ассортиментной работы, „Книга – почтой“. Отдел внемагазинной работы ведает всеми киосками, имеет на предприятиях, стройках, учреждениях и в учебных зданиях большой актив книгонош и общественных распространителей литературы».
Сегодня, разумеется, от той книжной империи почти ничего не осталось. Зато вырос выбор книг, что, в общем-то, немаловажно.
До революции же это был весьма своеобразный торгово-жилой комплекс. На первом этаже господин Павлов разместил магазин мод, на втором – собственную просторную квартиру, на третьем – квартиры для своих приказчиков.
* * *
За Домом книги, на соседней улице Коненкова, замыкая улицу Козлова, возвышается смоленский Вознесенский монастырь, основанный в шестнадцатом столетии государем Василием III.
В 1692 году эта обитель сыграла главную роль в одном почти мистическом событии. Царь Петр I прибыл в Смоленск на казнь стрельцов, устроивших мятеж. Казнить отступников решено было на площади рядом с монастырем. Сигнал – взмах белым платком – должен был дать Измайлов, царский ординарец.
Приговоренные и палачи стояли на своих местах. Народ толпился в нетерпении. Однако же Измайлов не махал платком. Он, в свою очередь, ждал приказа царя. А его все не поступало.
Тогда игуменья монастыря девица Марфа, осенив себя крестным знамением, направилась в покои государя. Петра она нашла сидящего недвижно и о чем-то отрешенно размышляющего.
– Государь! – сказала Марфа. – Небесное правосудие дало тебе и силу всепобеждающую и радость Божественную. Смягчи гнев свой, прости слабых и дай новую жизнь обреченным на смерть. Милосердием соплетается венец небесный, милость хвалится на Суде; Бог, Отец любви и милосердия, осенит главу твою щитом непобедимым.
Петр прекрасно понимал, что церковь, в общем-то, на стороне стрельцов и против его смелых государственных реформ. И что смирение девицы Марфы вынужденное, не слишком искреннее. И Марфа все это тоже понимала – и про себя, и про церковь, и про трезвые мысли Петра. Словом, девица рисковала не на шутку.
Однако Петр ответил неожиданно:
– Любезнейшая мать моя! Ты отдала мир и покой моему сердцу!
И тотчас же приказал Измайлову вместо того, чтобы махать платком, объявить о прощении, дарованном Богом и Государем.
Царь впоследствии признался, что во время пребывания в Смоленске ощущал томление души, грызение горести и прочие, не слишком свойственные Петру эмоции. Думал – может быть, действительно, помиловать их, дураков. Но сам решиться на такой поступок не мог, требовалось некое движение внешнего мира.
Каковое и осуществила матушка игуменья.
* * *
Монастырь был закрыт в 1929 году. Но еще в 1922 году в прессе появилась примечательнейшая заметка под названием «Зашевелились»: «Тунеядцы Смоленского Вознесенского монастыря, отошедшего согласно декрету СНК по установлению Смолгубисполкома Смоленскому Государственному университету подняли голову. Считая себя собственниками монастырских построек, они принялись дружно снимать планы домов-келий без ведома администрации Университета… Они уверены, что по составлении ими планов за ними будут признаны дома-кельи, построенные на территории монастыря за народные деньги».
В 1928 году «Рабочий путь» писал: «Давно уже одна из церквей Вознесенского монастыря превращена в клуб физкультуры, вместо креста на вышке красный флаг. «Святые» на фронтоне и фасаде были забелены, но с течением времени начали «обновляться», выглядывая из-под побелки.
ЖСКТ «Труд», производя большие ремонтно-строительные работы, взялся нынче и за это здание. Сейчас «святых» заштукатуривают, а «бывшие люди», проходя мимо бывшей церкви косятся на рабочих. – Безбожники, чтобы у вас руки отвалились… – Ничего, не отвалятся, – отвечают рабочие. – А вреда меньше будет».
А в 1929 году оставалось лишь завершить ранее начатое. И газеты, наконец, с триумфом сообщили: «В бывшем Вознесенском монастыре – сейчас клуб печатников, связи и нарпита. Клуб работает неплохо. Есть несколько кружков, комната отдыха, библиотека, шахматы».
Впоследствии в монастыре расположился выставочный зал Смоленского музея-заповедника.
* * *
Рядом с монастырем – бюст С. Т. Коненкова, сделанный им же самим. Точнее, копия того, что в наши дни хранится в Третьяковской галерее.
Правда, бюст был установлен уже после смерти Сергея Тимофеевича, в 1974 году.
* * *
На противоположной стороне Большой Советской, на улице с милым названием Верхнесенная одно время находился оперный театр. Один из жителей Смоленска, краевед Борис Перлин так писал о нем: «В городе после революции сформировалась оперная студия, но не было хорошего помещения для постановок. Видимо, горсовет в 1918 году принял решение о строительстве временного здания для оперного театра на Верхнесенной улице. Оно было оформлено четырьмя деревянными оштукатуренными колоннами, по две с каждой стороны входной двери. Смотрелось здание красиво. Оно официально именовалось Большим театром. Может быть, в это название была заложена ирония, но большинство смолян искренне называли этот театр Большим. Уютное фойе отапливалось двумя печами. Зал с балконом. Под балконом – ложи. Барьеры лож и балкона были оббиты красным плюшем. В проходах застелили дорожки. Все как в Большом. Уже в 1919 году прошли первые постановки. С 1920 по 1 сентября 1924 года здесь регулярно шли музыкальные спектакли, концерты. Смоляне любили свой театр. Зрителей всегда было много. В театре силами труппы была поставлена первая советская опера Александра Петровича Триодина „Князь Серебряный“. Триодин в 1918—1922 годах жил в Смоленске и работал на медицинском факультете Смоленского государственного университета, который недавно открылся. Одновременно с основной работой в качестве преподавателя он организовал струнный оркестр и оперную студию».
Однако в сентябре 1924 года оперный театр был «понижен в звании» и преобразован в кинотеатр «Пролеткино». Фильмы здесь демонстрировались под симфонический оркестр. Иногда оркестр давал концерты, выступали певцы. Но любимого театра больше не было. В чем же причина? Тот же Борис Николаевич объяснял:
«Смоленск недалеко от Москвы. В голодные годы Гражданской войны и военного коммунизма многие артисты из голодающей Москвы перебрались в Смоленск. Он был сытым городом, тесно связан с деревней. Не только шла обменная торговля, но можно было кое-что купить из продуктов у крестьян за советские деньги. Крестьянам нужны были металлические изделия: топоры, пилы и пр. Эти товары продавались в магазинах. Московские артисты за свой труд получали деньги и могли купить на них продукты питания на базарах Смоленска. Когда положение в стране более-менее нормализовалось, Триодин и основная труппа уехали в Москву. Качество музыкальных спектаклей упало, зритель перестал ходить в театр. Это и явилось причиной преобразования музыкального театра в „Пролеткино“. Но музыканты остались и продолжали играть во время кинофильма и перед сеансом. Билеты были дороже, чем в других кинотеатрах».
Вот такие взлеты и падения смоленской оперной культуры.
* * *
А на углу Большой Советской и Ленина находится одна из главных достопримечательностей города, известная как «Дом с часами». Сейчас под этими славными часами – вход в обыкновенный магазин. Но можно утешаться тем, что когда-то здесь находилась одна из самых фешенебельных гостиниц – «Европейская», ресторан Фрезера и Курляндский магазин мужской и женской одежды.
Часы украсили пересечение улиц в конце девятнадцатого века. В 1941 году они остановились – не выдержали немецких бомб. И были вновь запущены в феврале 1945 года. Ремонтировал их смоленский часовщик М. И. Кириенков. По большому счету даже не ремонтировал, а просто сделал заново. При этом все необходимые детали автор выточил и вырезал вручную.
А в 1949 году часы вновь сняли. На сей раз потому, что было решено обновить дом, который, строго говоря, отстроили по новой. И висит сейчас на площади не то подлинник на подлиннике, не то копия на копии, не то подлинник на копии, не то копия на подлиннике – как кому считать удобнее. Но все равно, знаменитые часы любимы всеми жителями Смоленска. Да и приезжие влюбляются в них с первого взгляда.
* * *
А напротив (Большая Советская улица, дом №25) – главная библиотека города, имени А. Т. Твардовского. Так же, как и «Дом книги», она – одна из старейших, появилась в 1921 году. Впрочем, библиотеки в городе существовали еще раньше. Сам Александр Сергеевич Пушкин имел возможность отказать здешнему книгохранилищу в своих произведениях.
Смоленский губернатор и поэт Н. И. Хмельницкий послал Пушкину письмо: «Милостивый государь, Александр Сергеевич. По распоряжению господина министра внутренних дел графа Арсения Андреевича Закревского предположено повсеместно завести губернские публичные библиотеки, и, по приглашению его сиятельства, многие уже из господ писателей и журналистов согласились доставить в оные по экземпляру своих сочинений и периодических изданий.
Озабочиваясь исполнением столь общеполезного предположения начальства и с тем вместе будучи уверен в вашем благосклонном ко мне, милостивый государь, расположении, я решился покорнейше просить вас украсить Смоленскую Публичную Библиотеку подарком ваших сочинений, что без сомнения почту за особенно оказанное мне одолжение.