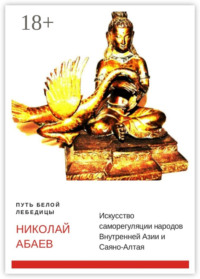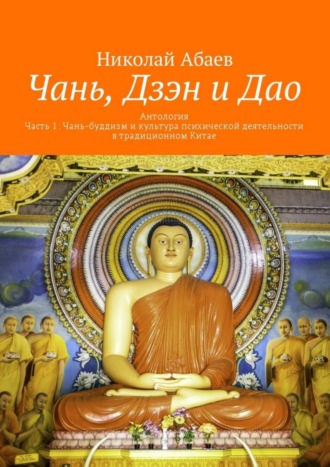
Полная версия
Чань, Дзэн и Дао. Антология. Часть 1: Чань-буддизм и культура психической деятельности в традиционном Китае
Утверждая, что человек по своей природе добр, гуманен и что гуманность является истинной его сущностью, основным и подлинно человеческим началом в его природе, ранние конфуцианцы видели магистральную линию культурного развития человека в максимальном проявлении и укреплении посредством воспитания и самовоспитания этого общечеловеческого, фундаментального и универсального для всех людей начала. «Люди близки друг другу по своей природе, но отдаляются друг от друга по своим привычкам», – говорится в «Лунь-юй» [там же, гл. 17, §2, с. 367]. Гуманность, по представлениям ранних конфуцианцев, есть основа () человеческой натуры и истинный Путь () человека [там же, гл. 1, §2, с. 4], а также высший этический принцип, который заключается в «преодолении личного и возвращении к правилам „ли“» [там же, гл. 12, §1, с. 262]. бэнь Дао
Вторичными по отношению к (гуманность) и производными от нее объявлялись все другие добродетели «благородного мужа» – (долг, справедливости), (сыновняя почтительность), (уважение к старшим братьям) и др. Конфуций утверждал, что отсутствие гуманности для цзюнь-цзы страшнее смерти, и если перед ним встанет выбор – жизнь или нравственные принципы, «благородный муж» пойдет на смерть, но не откажется от того, в чем видит смысл своего существования [«Лунь-юй», гл. 15, §8, с. 337]. Цзюнь-цзы не должен забывать о гуманности ни в спешке, ни в момент крайней опасности, ни во время еды [«Лунь-юй», гл. 4, §5, с. 76]. А отсюда также вытекает необходимость постоянного самонаблюдения, чтобы в любой момент, находясь в любой ситуации, цзюнь-цзы мог дать отчет о своем морально-психическом состоянии, которое всегда должно было находиться в полном соответствии с этими принципами и прежде всего – с принципом человеколюбия. жэнь и сяо ди
Снова цитируя в этой связи «Книгу песен» («В своем доме смотри за собой. Перед отверстием в крыше своей не стыдись» [Шицзин, с. 381]), «Чжун-юн» поясняет, что, даже находясь в той части дома, где его никто не видит, цзюнь-цзы неустанно следит за своими мыслями и поступками и, анализируя свое морально-психическое состояние, не обнаруживает в нем изъянов и не испытывает угрызений совести [Древнекитайская философия, т. 2, с. 135].
Призыв к цзюнь-цзы ни на мгновение не забывать о гуманности и постоянно контролировать свою психическую деятельность означал также, что в любой жизненной ситуации – от обыденной до самой экстремальной – -он должен был сохранять внутреннее спокойствие, выдержку, самообладание. Выдающийся последователь Конфуция, творчески развивший его учение и сам являвшийся достаточно оригинальным мыслителем, Мэн-цзы (372—289 гг. до н. э.), утверждал, что благодаря интенсивной психической тренировке он в 40 лет обрел «невозмутимость духа» () и с тех пор не теряет ее [Мэн-цзы, гл. 2, ч. 1, с. 111]. бу-дун-синь
При этом он ссылался на пример ученика Гао-цзы, который якобы не теряет «невозмутимость духа» с еще более раннего возраста, а также рассказал об одном наемном убийце, прославившемся силой и решительностью и имевшем свой «Путь (Дао) сохранения невозмутимости духа», с помощью которого он воспитал в себе такое мужество и выдержку, что даже не моргал, когда ему наносили удары; рассказывал он и о людях, которые с помощью различных методов воспитания мужества и закалки духа достигали такого самообладания, что смотрели на поражение как на победу и не испытывали чувства страха в опасных ситуациях [Мэн-цзы, с. 110—111].
Таким образом, важное практическое значение конфуцианской психогогики заключалось в том, что она давала возможность сохранять самообладание и выдержку в различных жизненных ситуациях, в том числе экстремальных. Эффект такого рода психической тренировки был, по-видимому, обусловлен прежде всего тем, что она позволяла снимать излишнее национальное, психофизическое напряжение, сковывающее человека в сложной ситуации, и более адекватно реагировать на внешние стимулы. Однако главный акцент ранние конфуцианцы делали при этом не на достижении внутреннего покоя как такового, а на мобилизации нравственных, психических и физических сил человека для решения определенных задач, к тому же они стремились обрести выдержку и спокойствие в первую очередь с помощью волевого усилия, в чем отчетливо проявилась известная противоречивость конфуцианской психогогики, так как всякое волевое усилие может дать обратный результат, усугубив эмоциональную напряженность.
Акцент на мобилизации психофизических возможностей человеческого организма в конфуцианской психогогике обусловлен прежде всего тем, что в отличие, скажем, от даосской и буддийской религиозной психогогики она не была ориентирована на достижение сотерологических целей, а ставила перед собой и пыталась решать главным образом социальные задачи, подготавливая цзюнь-цзы к активной мироустроительной и созидательной деятельности, к более эффективному исполнению своего общественного долга, а отнюдь не к переходу в некое трансцендентальное состояние.
Высокое чувство социальной ответственности побуждало конфуцианского цзюнь-цзы быть твердым, целеустремленным и инициативным при исполнении своих обязанностей, проявлять максимальное усердие и старательность, отдавать всего себя избранному делу, а повышенная требовательность к себе заставляла мобилизовывать все свои внутренние резервы, все психические и физические возможности организма на решение поставленных задач, видя в этом высший смысл и цель всей жизнедеятельности. Конфуций подчеркивал, что даже в личной жизни цзюнь-цзы не должен допускать никакой нерадивости, небрежности, лености или расхлябанности [«Лунь-юй», гл. 12, §14, с. 274], не говоря уже об исполнении служебных обязанностей, т. е. социально значимой деятельности, которая ставилась неизмеримо выше личных дел и нередко приравнивалась к сакральным актам, к священнодействию (см.: «Управляя государством, имеющим тысячу боевых колесниц, нужно относиться к делу с верой и благоговейным сосредоточением» [там же, гл. 1, §5, с. 7—9]; «Благородный муж печется о долге, низкий человек жаждет выгоды» [там же, гл. 4, §16, с. 82]).
Столь ревностное, можно даже сказать фанатичное, отношение к служению общественному долгу требовало от конфуцианца соответствующих волевых качеств, поэтому воспитанию твердости характера, целеустремленности и сильной воли уделялось в конфуцианской психогогике очень большое внимание. Конфуций весьма одобрительно отзывался о «людях, живущих в уединении и укрепляющих свою волю (), чтобы [достойно] исполнять свой долг» [«Лунь-юй», гл. 16, §11, с. 361] и указывал, что «к гуманности приближается тот, кто тверд и настойчив, прост и малоразговорчив» [там же, гл. 13, §27, с. 298]. Еще более важное значение волевому фактору придавал Мэн-цзы, утверждавший, что именно воля () управляет жизненной энергией (), которая «наполняет тело» человека от головы до пяток и кончиков пальцев, придавая ему силу и крепость [Мэн-цзы, гл. 2, ч. 1, с. 115—116]. «Воля – главное, а жизненная энергия – второстепенное», – говорил он и призывал «укреплять волю, упорядочивая тем самым свою жизненную энергию», так как когда «воля [сконцентрирована] воедино, она движет жизненной энергией, [когда]. жизненная энергия [сконцентрирована] воедино, она движет волей» [там же, гл. 2, ч. 1, с. 116]. чжи чжи ци
Судя по последней сентенции Мэн-цзы, он допускал не только наличие прямой связи между эмоционально-психическим и биоэнергетическим состояниями, но и возможность обратной связи, и это ни в коей мере не противоречит первоначальному тезису «Воля есть главное, а жизненная энергия – второстепенное», так как волевое усилие, по представлению ранних конфуцианцев, исходит от целенаправленной и сознательной активности психики, а биоэнергетический потенциал воздействует на психику спонтанно. И именно тогда, когда человек научается управлять своей психикой, придавая ее деятельности целенаправленный и организованный характер, он получает возможность управлять биоэнергетическими процессами в своем организме, придавая им столь же целенаправленный и организованный характер, что, в свою очередь, позволяет ему мобилизовывать свои биоэнергетические ресурсы в нужный момент.
Вместе с тем активизация «жизненной энергии» с помощью психической концентрации способствовала стимуляции и оптимизации биоэнергетических процессов в организме человека, улучшению его общего физического состояния, а это положительно сказывалось и на его эмоционально-психическом состоянии (ср. известную поговорку «В здоровом теле – здоровый дух»). Таким образом, оптимизация эмоционально-психического состояния вызывала оптимизацию биоэнергетического состояния, и наоборот.
В принципе активизацией энергии , или, согласно традиционному китайскому термину, ее «воспитанием», «взращиванием» (), можно было заниматься и в оздоровительных, профилактических целях, поскольку такие занятия несомненно оказывали терапевтический эффект (в плане как общей терапии, так и психотерапии, психопрофилактики, психогигиены и т. д.). Так и делали в течение многих столетий те, кто стремился обрести с помощью такого рода тренировки психическое и физическое здоровье, чувство соматического комфорта, силу, выносливость, долголетие и т. д. Особенно важное значение «взращиванию ци» придавали последователи того направления в религиозном даосизме, которое ставило своей главной задачей поиски пресловутого «эликсира бессмертия». Однако для последовательных и принципиальных учеников Конфуция такой путь был неприемлем, так как забота о своем собственном здоровье, счастье и благополучии была несовместима с идеалами цзюнь-цзы, ставившего общественное благо превыше всего и озабоченного прежде всего решением социальных, а не своих личных проблем. « [Научиться] владеть собой и восстановить правила «ли» – вот в чем заключается гуманность», – говорил Конфуций [«Лунь-юй», гл. 12, §1, с. 262]. Конфуцианский цзюнь-цзы должен был заниматься самовоспитанием и психической саморегуляцией прежде всего потому, что, как указывал Конфуций, нельзя научиться управлять другими людьми, а тем более целым государством, не научившись управлять самим собой, своей психикой. «Как можно управлять другими людьми, если не умеешь управлять самим собой?!» – вопрошал он и пояснял: «Если же управляешь самим собой (дословно: «упорядочил себя»), управлять государством будет совсем нетрудно», ибо «когда человек управляет самим собой, людям не приказывают, но они исполняют; когда же человек не управляет собой, хоть он и приказывает, ему не повинуются» [там же, гл. 13, §13, с. 289; §6, с. 286]. ци ян-ци
При этом Конфуций настойчиво подчеркивал, что под управлением он прежде всего имеет в виду процесс «упорядочения», «наведения порядка», как на уровне отдельной личности (т. е. в ее психической жизни), так и на уровне общества, государства, всей Поднебесной. «Управлять – значит упорядочивать», – говорил он [там же, гл. 12, §17, с. 274], усматривая в наведении «всеобщего порядка» сверхзадачу и конечную цель предложенного им пути нравственного, культурного, психического и социального развития человека и общества.
Ратуя за тотальный порядок, ранние Конфуцианцы стремились максимально «упорядочить» все, что входило в сферу жизнедеятельности человека высокой нравственности и культуры, т. е. цзюнь-цзы: его взаимоотношения с вышестоящими и нижестоящими, нормы поведения, одежду и прическу, вкусы и привычки, психическую и речевую деятельность (посредством так называемого «исправления имен» – ) и прочее, вплоть до его сексуальной жизни. чжэн-мин
Поскольку личностному фактору они придавали определяющее значение в решении всех проблем, стоящих перед человеческим обществом, то процесс наведения «всеобщего порядка» следовало начинать, по их мнению, именно с человека как личности и субъекта мироустроительной и созидательной деятельности, развивая этот процесс в такой последовательности: сначала человек «приводит в порядок» себя, в первую очередь свое нравственное поведение я психическую деятельность, затем он наводит порядок в своей семье, затем – в своем государстве и, наконец, старается упорядочить весь универсум.
Этим, в свою очередь, было обусловлено то огромное значение, которое конфуцианцы придавали практике морального и психического совершенствования, рассматриваемой ими как главное средство «утверждения [правильного] Пути» [Древнекитайская философия, т. 2, с. 127]. «Благородный муж не может не самосовершенствоваться», поскольку тот кто «знает, как осуществлять самосовершенствование, знает, как управлять [другими] людьми», а тот, кто «знает, как управлять [другими] людьми, знает, как управлять Поднебесной и государством», – говорится в трактате «Чжун-юн» [там же, т. 2, с. 126—127].
Таким образом, огромная роль, которую играла в конфуцианстве практика морального и психического самоусовершенствования, логически вытекала из фундаментальных положений этого учения, а ее специфические особенности (постоянный самоанализ, жесткий самоконтроль, акцепт на упорядочении психической деятельности и т. д.) были обусловлены характерными особенностями конфуцианства и были столь же тесно связаны с его фундаментальными принципами. В целом же само стремление к упорядочению явлений микро- и макромира, внутренней и внешней реальности отражало ведущую тенденцию человеческой культуры к уменьшению меры энтропии в окружающем мире, общую для всех культурных традиций, но проявившуюся в раннем конфуцианстве вообще и в его культуре психической деятельности в частности в наиболее рельефной, явно выраженной и осознанной, идеологически обоснованной форме.
На основе структурного анализа целого ряда архаических традиций К. Леви-Стросс отмечал, что культура начинается там, где возникает правило (т. е. организация), и вслед за ним многие современные исследователи культуры признают главным условием ее существования момент организации, а основной функцией – уменьшение энтропии в окружающем мире, придание ему структуры культуры, его культуривация, т. е. организация («упорядочение», согласно конфуцианской терминологии) по образцу человеческой культуры [ср. Лотман, с. 6—11; Леви-Стросс, с. 9]. Коль скоро антиэнтропийная тенденция доминирует в человеческой культуре, то вполне закономерно, что конфуцианство, отразившее эту тенденцию в своей теории и практике в особенно острой форме, со временем стало господствующей идеологией, в результате чего оно получило еще более благоприятные условия для дальнейшего углубления этой тенденции.
Стремление к уменьшению энтропии, как правило, реализуется прежде всего в противопоставлении культуры и природы, «культурного» и «естественного» поведения, создавая конфликтную ситуацию как на уровне отдельной личности, так и на уровне всего социума. В целом это было характерно и для конфуцианской культуры, хотя сам Конфуций и многие его последователи (например, Мэн-цзы) признавали опасность такого противопоставления и пытались как-то примирить две противоборствующие тенденции или по крайней мере смягчить остроту конфликта, опираясь на исходную посылку, что в конечном счете они не взаимоисключают друг друга.
Так, Конфуций говорил: «Если в человеке естественность побеждает культуру, он становится дикарем; если же культура побеждает естественность, он становится ученым-книжником. Только тогда, когда культура и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем» [«Лунь-юй», гл. 6, §16, с. 125]. А Мэн-цзы призывал людей, занимающихся самовоспитанием, соблюдать чувство меры, не перешагивая границы природных возможностей человека, и предостерегал их от чрезмерного ускорения естественного процесса нравственного и психического созревания личности, в качестве негативного примера приводя популярную притчу о жителе царства Сун, который стал тянуть всходы вверх, полагая, что помогает их росту, но растения, разумеется, завяли. «Считать, что воспитание не нужно, и пренебрегать им – значит не обрабатывать всходов. Ускорять его ход – значит тянуть всходы. Это не только бесполезно, но и приносит вред», – резюмировал притчу Мэн-цзы [Мэн-цзы, гл. 2, ч. 1, с. 121—122].
Но хотя ранние конфуцианцы субъективно понимали опасность конфронтации двух начал (природного и культурного) и, более того, предвидели многие негативные последствия такого конфликта для самой культуры, несмотря на общую для большинства школ древнекитайской мысли, в том числе и для конфуцианства, методологическую установку на взаимозависимость и взаимодополняемость всех дуальных противопоставлений, объективно ситуация складывалась так, что ранние конфуцианцы отдавали явное предпочтение культурному началу, притом в ущерб природному, сознательно или неосознанно противопоставляя их друг другу.
В этом, бесспорно, заключалось одно из главных противоречий конфуцианства, которое оно было в состоянии снять теоретически (постулируя необходимость соблюдения определенного баланса двух начал), но не очень успешно решало практически, так как не имело адекватных средств, да и стремилось к этому гораздо менее целеустремленно и последовательно, чем к реализации антиэнтропийной тенденции, понимаемой им несколько односторонне и однозначно (в отличие от даосизма и чань-буддизма, о чем речь пойдет ниже). Поэтому Конфуций, который призывал «избегать крайностей» и придерживаться принципа «золотой середины», вынужден был признать, что учение о «золотой середине», пожалуй, неосуществимо ([«Лунь-юй», т. 2, с. 120]; см. также [«Лунь-юй», гл. 6, §27]), и с сожалением констатировал: «Поскольку нет людей, которые действуют в соответствии со срединным путем, приходится иметь дело с людьми либо излишне несдержанными (дословно: «неистовыми), либо излишне осторожными. Несдержанные хватаются за все, а осторожные бездействуют, когда есть необходимость [в активной деятельности]» [там же, гл. 13, §21, с. 294]. »
Конфуцианская культура утверждала себя в противопоставлении не только природе, но и оппозиционной ей даосской подкультуре, отстаивавшей примат природного, естественного начала и отражавшей вредные и опасные, с точки зрения господствующей культуры, тенденции к деструктуризации и десемантизации, а потому третируемой «правоверными» конфуцианцами как не-культура, антикультура, т. е. культура с обратным знаком. Таким образом, общее противопоставление «культура – природа» нашло свое конкретное проявление в оппозиции «конфуцианство – даосизм», в свою очередь проявившейся в резкой антитезе «культурного» поведения, горячими поборниками которого, разумеется, были конфуцианцы, и «естественного» поведения, первичность которого отстаивали даосисты.
В традиционном Китае «культурное» поведение приобрело ярко выраженный ритуализированный характер, так как решающую роль в его становлении сыграл конфуцианский принцип «ли» (правило, этикет, церемонии, ритуал), истоки которого можно обнаружить в архаическом ритуале, и прежде всего в ритуальном жертвоприношении. О генетической связи конфуцианских «правил этикета» с архаическим ритуалом свидетельствует, в частности, то, что обряд жертвоприношения занимал в них значительное место [Васильев, 1970, с. 159, 209—211], но для нас здесь важно отметить типологическое сходство, выражающееся в общности психорегулирующих функций, которые выполнял ритуал в архаических коллективах, а правила «ли» – в традиционном Китае. В архаических культурных традициях ритуал рассматривался как важнейшее средство борьбы с энтропией, как средство, с помощью которого в первородный хаос, царящий в окружающем мире, вносился элемент организации. Так, например, в гимнах Ригведы говорится, что Митра и Варуна установили космический порядок посредством обряда жертвоприношения. Структурообразующая функция ритуала тесно связана с интегрирующей, так как его исполнение, способствуя упорядочению отношений между членами определенного коллектива, одновременно вызывало у них чувство солидарности, поскольку общность обрядов требует и определенного единства взглядов, действий и эмоций.
Конфуцианские «ли», безусловно, не тождественны архаическому ритуалу и главным образом потому, что они включили в себя нормы и предписания, выходящие далеко за рамки собственно ритуала и охватывающие практически всю сферу так называемого «культурного» поведения. (В своем широком значении они, в сущности, синонимичны понятию «культурное поведение», но традиционный перевод этого термина более употребителен, поэтому мы будем иногда пользоваться им, не забывая о его многозначности.) Тем не менее, как мы уже отметили, конфуцианский ритуал обнаруживает большое функциональное сходство с архаическим, что позволяет говорить и об известной близости эмоционально-психологического содержания,
Так, например, Конфуций неоднократно подчеркивал, что ритуал, наряду с добродетелью, является одним из главных средств «наведения порядка» в Поднебесной, «упорядочения отношений» между ее жителями и управления ими ([Древнекитайская философия, т. 2, гл. 9, с. 101—102, 104, 106 и далее]; см. также [«Лунь-юй», гл. 1, §12, 13]). При этом один из его ближайших учеников говорил, что важность ритуала заключается в том, что он «приводит людей к согласию» [там же, гл. 2, §12].
Приводя людей к согласию и единодушию в масштабе всего социума, ритуал в то же время был призван служить психорегулирующим механизмом эмоциональной корреляции между знанием и действием, словом и делом на уровне отдельной личности. Основываясь на триаде взаимосвязанных и противопоставленных понятий «мысль – слово – дело», выявленной В. Н. Топоровым в результате анализа ряда архаических традиций [Иванов В. В., Топоров В. Н.], Л. А. Абрамян убедительно показал, что посредством некоторых обрядов было возможно достижение единства между элементами этой триады [см. Абрамян]. То же самое можно сказать и о конфуцианском ритуале, но в гораздо более широком смысле. Если в магическом обряде это единство реализуется лишь в непосредственном акте магического действия, то конфуцианский ритуал в идеале должен был охватывать своим психорегулирующим и коррелирующим воздействием все поступки («дела») конфуцианизированной (т.е. «культуризированной» в конфуцианском смысле) личности и весь круг ее знаний, интериоризируемый в мыслях и получающий знаковое выражение в словах, а также и в делах этой личности, так как семиотизация является одним из главных средств культуризации явлений действительности, их организации по принципам структурной организации человеческой культуры, и поэтому поведение человека в традиционном Китае тоже приобрело отчетливо выраженный знаковый характер. Так, один из учеников Конфуция, ссылаясь па примеры из древности, говорил, что все «большие и малые дела» нужно вершить «в соответствии с ритуалом» и что ритуал является средством «ограничения» поступков (т. е. средством, с помощью которого их можно удерживать в рамках определенных предписаний, определенной догмы, а также превращать в определенным образом организованную знаковую систему) [«Лунь-юй», гл. 2, §12]. Сам Конфуций указывал, что умение сдерживать себя и во всем соответствовать ритуалу является одним из главных признаков «гуманного» человека, т. е. цзюнь-цзы, «то, что не соответствует ритуалу, нельзя говорить, и то, что не соответствует ритуалу, нельзя делать» [там же, гл. 12, §1, с. 262].
Конфуцианские правила «ли» налагали строгие ограничения не только на слова и поступки, мысли и чувства, но и на объем знаний конкретного индивида, на его теоретический багаж, который, в сущности, сводился к знанию этических норм и предписаний, определяющих моральный облик «благородного мужа», и в первую очередь правил «ли». Так, в трактате «Лунь-юй» говорится, что цзюнь-цзы не станет отходить от истины, если будет «ограничивать излишнюю ученость посредством ритуала» [там же, гл. 6, §25, 27; гл. 12, §5]. Ритуал, таким образом, рассматривался в конфуцианстве как один из главных критериев истины и как своеобразный опосредующий механизм, с помощью которого знания приводились в соответствие с действием, эмоционально-психологическое состояние человека – со всем кругом его теоретических представлений, а вместе с тем и с идеальным образом репрезентативной личности (цзюнь-цзы), как бы сплавляя в единое целое его мысли, чувства и поступки.
В архаических традициях опосредующие функции ритуала были, по-видимому, обусловлены главным образом тем, что его исполнение вводило участника архаического обряда в атмосферу непосредственного и глубоко эмоционального сопереживания инсценируемого эпизода мифологической драмы, требовало вдохновения и религиозного энтузиазма, переходящего в состояние экстаза и превращавшего мифологические образы в реально переживаемые факты сознания. Это состояние «психофизического катарсиса», зачастую достигавшееся с помощью галлюциногенных («психоделических») препаратов [Иванов В. В., с. 6, с. 24—25], превращало участника архаического обряда в соучастника перипетий мифологической драмы и заставляло переживать весь ее драматический накал заново и всерьез, соотнося тем самым формальную структуру мифа с соответствующим ему ритуалом. Так, например, известный специалист по мифологии африканских народов Б. Оля пишет, что миф «практически неразрывно связан с африканской литургией. Именно он часто составляет основу обряда, сюжетную канву некоторых главных церемоний. То, что мы называем священной драмой, является по существу инсценировкой мифа, иначе говоря, актуализацией священной истории» [Оля Б., с. 60—61].