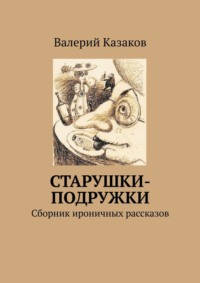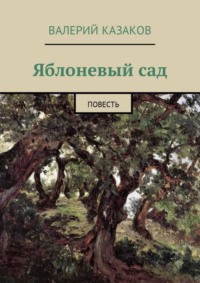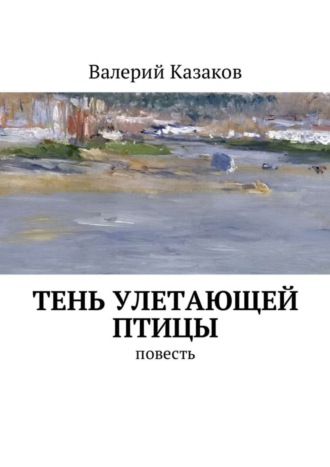
Полная версия
Тень улетающей птицы. Повесть
– Может быть, мы попали в коммунизм? – предположил Сережа:
– По радио говорят, что его где-то уже построили. Может быть, здесь?
– Давай пройдем эту улицу до конца и поглядим, – предложил я.
– Давай, – ответил Сережа. – Только мы ведь не знаем, какой он. Может быть коммунизм страшный. Или там никого нет.
– Говорят, там всё есть: и колбаса, и масло, и пельмени. Если мы попали в коммунизм, то мы это непременно почувствуем, – уверенно ответил я.
И мы пошли: сначала под кронами тополей, в их густой, узорной тени, потом по пыльной траве, потом по желтоватой тропинке, посыпанной гравием, которая тонкой змейкой протянулась от начала улицы до оврага. Через овраг в том месте, где обрывалась тропинка, был перекинут небольшой деревянный мосток, выстланный гладкими сухими жердями.
Вопреки нашим ожиданиям, за оврагом началась ещё одна улица, застроенная приземистыми и длинными брусковыми домами похожими на бараки. Вскоре от одного из этих домов очень вкусно запахло жареным луком и ещё чем-то мясным и аппетитным. Нас сразу же потянуло именно к этому дому. Над его крыльцом висела нехитрая вывеска. Красные буквы на ярко-желтом фоне гласили: «СТОЛОВАЯ».
– Я никогда не был в столовой, – признался Сережа.
– Я тоже.
– Тогда, может быть, зайдем? – предложил он.
– У нас денег нет.
– А у меня есть немного, кажется, – неуверенно признался Сережа и стал проверять свои карманы. – Мне мамка вчера дала на хлеб. Я пришел в магазин, а хлеба там уже нет. Весь раскупили. Вот деньги и остались.
И Сережа показал мне настоящий бумажный рубль, сильно помятый с боков и просвечивающий насквозь.
– Как ты думаешь, на него что-нибудь здесь дадут? – с некоторым сомнением спросил он.
– На бумажный рубль и при социализме давали, – уклончиво ответил я.
– А пельмени?
– Наверное, дадут и пельмени.
– Я только пельменей хочу.
Мы обогнули тёмно-зелёный лесовоз, застывший перед столовой в огромной луже, и вошли в высокий просторный зал, где за приземистыми столами, полными самой разнообразной еды, сидели незнакомые люди. Их лица были просты и спокойны. Они вполголоса о чем-то переговаривались, улыбались, лениво допивали парящийся в стаканах чай и с безразличным видом смотрели на картины, развешанные по стенам, на фикус в дальнем углу.
– Нам две порции пельменей, – попросил Сережа у женщины в белом халате, возникшей где-то между прилавком и потолком.
– И больше ничего? – ответила она, слегка согнувшись.
– А что ещё у вас есть?
– Суп. Щи и рассольник.
– Нет… Нам хлеба ещё по куску и… чаю, если можно.
– Ну, тогда с вас шестьдесят восемь копеек.
– А это сколько? Это не больше рубля?
– Нет.
– Ну, тогда нам ещё лимонаду бутылку и… и булку с маком,
и…
– Всё, мальчик. Рубль не резиновый, – сухо перебила его женщина в белом халате.
Но всё равно это был замечательный обед. Мы с аппетитом ели горячие пельмени и восторженно смотрели по сторонам. Нам всё здесь нравилось: и фикус в углу, и косой солнечный свет из окна, и красочные натюрморты по стенам, и жужжание одиноких мух где-то под потолком, там, где развешаны желтые ленты липучек, напоминающих новогодний серпантин. Мы ещё ели, ещё наслаждались видом аппетитных натюрмортов, а нам уже очень хотелось вернуться в эту столовую ещё раз… Вот только найдем ли мы сюда дорогу в густых ржаных зарослях, в этом бескрайнем поле социализма, которое начинается за селом, а кончается где-то за горизонтом в хрустальной пустоте.
Жизнь здесь, в этом затерянном селе, казалась нам неспешной, размеренной и сытной. То есть, примерно такой же, какой она должна была стать при коммунизме. В светлом будущем. В счастливом завтра.
***
Тропинку назад мы нашли довольно быстро. Высокие стебли ржи в том месте, где мы недавно прошли, ещё не успели выпрямиться, и поэтому желто-зелёная стена поля тут была заштрихована ими не снизу вверх, а слегка наклонно. Вначале мы припустили по ржи бегом, но вскоре выдохлись и стали всё чаще с надеждой поглядывать по сторонам, ожидая увидеть привычные нашему глазу ориентиры: вершины тополей за огородами, или макушку полуразрушенной церкви, или колхозный гараж с пожарной каланчой на крыше, где постоянно сидит пьяный сторож Савелий Федорович…
Вечерело. Справа и слева от нашей тропинки уже стрекотали кузнечики. Медленный летний закат золотил небо. Стая каких-то мелких птиц прошелестела над нашими головами быстрыми крыльями, потом где-то недалеко прогудел трактор.
И тут меня осенило. Я ткнул Сережу в бок и предложил:
– Встань мне на спину и посмотри, где он едет. Там должна быть дорога. Мы выберемся на дорогу и по ней придем домой.
– Точно, – радостно отозвался Сережа. – Как это мы раньше не догадались…
Он тут же вскарабкался мне на спину, повертел головой туда-сюда и сказал, что дорога находится рядом. Оставалось только выбраться на неё. Впрочем, эта дорога из пельменного рая в наше обычное настоящее была много короче той, по которой мы продвигались утром. К тому же, она оказалась довольно пыльной и ухабистой…
Через полчаса мы были дома. Но перед тем, как расстаться поклялись, что никогда никому не расскажем о нашем путешествии, а когда у нас появятся деньги, обязательно вернемся туда и отведаем всего – всего, чего только душа пожелает, и посидим под фикусом, и картины как следует разглядим, и душистого лимонада напьемся до отвала.
– А завтра, – спросил Сережа.
– А завтра пойдем искать клад в развалинах старой часовни. Вот найдем этот клад и сразу станем богатыми.
Не так давно в заброшенной часовне мы обнаружили ход, который уходил куда-то глубоко вниз и был в ширину сантиметров тридцать. Сначала мы посветили туда фонариком. Его тонкий луч уперся в кирпичную кладку древних, отсыревших от времени стен, потом – в тёмный пол и странное возвышение на этом полу, напоминающее большой железный сундук. Стало ясно, что там под фундаментом часовни находится какое-то тайное помещение.
– Там, наверное, клад, – тут же шепотом поведал мне Сережа. – Где же ему и быть, если не тут.
– Тогда надо спуститься туда и посмотреть, – нашелся я.
– Надо бы, – согласился Сережа.
Луч фонарика снова скользнул по кирпичной кладке и каменному полу, и Сережа продолжил:
– Только мне туда не пролезть. Узко.
– А мне – тем более. Я здоровее.
– Что же делать?
– Надо ход немного раздолбить, – посоветовал я. – Чтобы плечи прошли. У тебя они узкие.
– Долбить так долбить, – нехотя согласился Сережа.
Мы сходили домой за нужным инструментом и работа началась. Часа полтора мы усердно крошили ломами влажный кирпич, расширяя лаз. Работа шла медленно, наши ломы то и дело скользили вдоль стены, высекая из неё желтые искры и норовя вырваться из рук. Но желание поскорее увидеть клад было сильнее. Тайно мы полагали, что сейчас решается наша судьба. Станем мы богатыми, будем каждый день есть горячие пельмени или продолжим за всякий медный пятак из родительских рук гнуть спину в огороде, пропалывая гряды и окучивая картофель.
И вот, когда всё уже было готово, когда Сережа уже попробовал просунуть в широкий лаз свою голову, чтобы получше рассмотреть, что там находится, – позади нас вдруг раздался громкий старческий голос:
– А вы чего тут делаете, поганцы?
Мы испуганно оглянулись назад, и увидели за спинами, на светлом фоне дверного проёма бывшую монахиню, очень древнюю старуху Варвару Илларионовну Ларину. Она сутуло стояла в дверях часовни в своём обычном тёмном платье до пят, в синем батистовом платке и грозно смотрела на нас своими большими цыганскими глазами.
– Сначала мраморные плиты на кладбище раздолбили у всей моей родни, а сейчас, значит, до семейного склепа добрались. Я вот вам покажу! Я вот вам устрою сладкую жизнь! Нигде от вас спасенья нету… Чтобы ноги вашей здесь больше не было! Слышите, поганцы! Чтобы…
Последние её слова мы уловили уже, скорее, не ушами, а изогнутыми спинами, изо всех сил работая ногами…
После этого случая с Варварой Илларионовной мы старались не встречаться. Как только замечали её тёмную фигуру где-нибудь впереди, так сразу пытались свернуть в ближайший переулок или заскочить в пустующий двор. Варвара Илларионовна внушала нам странный трепет. Она была отголоском той жизни, которая закончилась в России много лет назад и больше никогда не вернётся. Никто этого не хотел. Говорили, что эта страшная старуха – последний отпрыск какого-то дворянского рода, который рассеяла по свету Октябрьская революция. Что она двадцать лет провела в Томских лагерях, но не сломалась, не утратила веру в Бога, и ни на кого не держит зла… Но однажды она каким-то образом выследила нас. Схватила обоих за руки, присела рядом на корточки и, неожиданно ласково глядя в глаза, сказала:
– Попались, кладоискатели! – Немного помолчала и продолжила: – Эх, забили вам головы в вашей школе разной дурью. Вот вы и ищите клады по всей земле. И всё не там, где нужно. А ведь клад-то настоящий он – в голове. Вот в этой, цыганской, курчавенькой и в этой, белобрысой. Бог даст терпение, умные люди знания дадут – вот вам и клад на всю жизнь. Никто его не отберет, – сказала она и отпустила нас с миром.
Мы после этого долго стояли и смотрели на неё с недоумением, ожидая положенной в таком случае плюхи. Но так ничего и не дождались. Вечером я убрал на свое место лом, кирку и лопату до той поры, пока интуиция или случай не подскажут нам, где копать.
***
После памятной встречи с Варварой Илларионовной Сережа не приходил ко мне два долгих, почти бесконечных, дня. В первый день с самого утра шел дождь. Небо и облака были одного цвета – цвета молочной сыворотки. С крыши капало, а когда дождь припускал, необычный шум усиливался, закипал, как вода в самоваре, и заглушал всё вокруг, закладывал уши.
От нечего делать я подолгу сидел в спальне возле окна и смотрел в сад на подвижную, шумно шелестящую листву, на резко обозначившиеся, тёмные от влаги ветви сирени и белесые, вывернутые ветром наизнанку, листья малины. Меня не покидало ощущение сонной грусти и томительно-бездеятельной задумчивости. Душа ждала чего-то неожиданного, чего-то яркого. И если вдруг сквозь плотную пелену облаков пробивалось солнце и, вся залитая влагой, помолодевшая зелень начинала изумрудно искриться и вспыхивала до боли в глазах, – то мне казалось, будто душа ждала именно этой вспышки, потому что после неё сердце переполнял восторг. Так могла поразить только природа, только то, что очень трудно описать словами…
Потом был понедельник, то есть тот день, когда нужна было настраиваться на длинную детсадовскую неделю с коллективными играми, коленкоровыми занавесками и неприятно-гулким, пружинно-скрипучим «тихим часом»… В этот день у меня всегда было плохое настроение, я становился неразговорчивым, обидчивым, даже упрямым. Каждой клеткой своего тела я чувствовал, как от меня уходит свобода, как я становлюсь таким же, как все. Из самого умного и любимого я превращаюсь в часть коллектива, в обычную песчинку, от которой ничего не зависит, которая должна знать свое место в общей куче. Поэтому, чаще всего как раз в понедельник, из садика я убегал, выходил вдоль сухого оврага к реке и прятался там, в густых ивовых зарослях, до самого вечера. Правда, в этом случае к ощущению обретенной независимости всегда примешивалась доля страха: а что если меня поймают и приведут обратно? Что, если о моих проделках сообщат родителям?
Но зато как прекрасен был этот миг украденной свободы, как, по-своему, ярок, как томительно неповторим. Ведь мне нельзя было попадаться на глаза никому, ни с кем нельзя было разговаривать. И в этом была своя прелесть, своя сладкая скорбь, приучившая меня к созерцательству мелочей.
А может быть, убегая из детского сада, я убегал из громкоголосой детской веселости во взрослую мудрую молчаливость. Ведь именно тогда меня посетила первая случайная тень меланхолии. Я вдруг понял, что всё видимое мной пространство временно. Это вспышка, которая не повторится. И мне захотелось запечатлеть её каким-нибудь образом. Мне захотелось выделиться из массы тех, которые не могут, которые не желают ничего замечать, которым это не нужно.
На следующий день я сказал маме, что никогда больше не пойду в детский сад. Я уже взрослый. Я вырос.
Она внимательно посмотрела на меня и, как бы по инерции, спросила:
– Почему?
– Там скучно, – кратко ответил я.
– А чем ты будешь заниматься?
– Я буду рисовать.
– Левитан какой нашелся, – улыбнулась она.
– Шишкин, – парировал я, инстинктивно ощущая, что в картинах этого художника мне чего-то не хватает. Некой восторженности, что ли. Некой, берущей за душу неповторимости, которую потом я назову поэзией. Старая Нянька, стоящая в это время где-то возле печи в синем халате на худых плечах, услышав мои слова, обернулась и вслед за мамой посмотрела на меня удивленными, всё понимающими глазами. Наверное, она впервые почувствовала, что её воспитанник становится взрослым. И ещё я заметил в её глазах некий ласковый свет, который относился, должно быть, уже не ко мне, а к тому человеку, которым я когда-нибудь стану, и которым она хотела бы гордиться.
И я, действительно, стал рисовать. Я грунтовал белой краской фанеру, купал плоскую кисть из щетины в душистом скипидаре, смешивал на палитре масляные краски, приятно пахнущие льняным маслом, и пытался изобразить ими на холсте то восход, то закат, то дом среди пышно цветущего сада, то одинокое дерево, стоящее в конце поля, на самой кромке горизонта. И мне казалось, что у меня уже кое-что получается. Ещё немного, и я смогу нарисовать настоящую картину, как у Репина или Саврасова.
Только эти упражнения длились недолго. Меня по-прежнему более всего занимала дружба с Сережей. Он приходил каждый день поутру и уходил только поздно вечером. Мы, как прежде, лазили по деревьям, исследовали какие-то чердаки, развалины и подвалы в поисках позабытого клада, а после обеда сидели на пологой крыше сенного сарая и наблюдали за соседской девочкой Сашей, которая полола гряды в огороде напротив и одновременно загорала. Созерцая её изящное, тонкое тело, Сережа сосредоточенно мрачнел, его глаза загорались странным внутренним светом, и я начинал угадывать в них какое-то таинственное взрослое томление. Потом это томление каким-то образом передавалось мне. Я уже почти понимал, что это значит, что есть на свете любовь, только представить себе не мог, как эта любовь может реализоваться на деле. Ведь эта Сашенька почти что ангел, у неё невесомые светло-русые волосы, и лицо такое невинное, такое нежное, а лоб такой чистый, что разная интимная грязь к ней попросту не пристанет. Это невозможно. Я её даже в туалете представить не могу. Как это такая фифа, такая принцесса – и на горшке с голым задом? Да и не нужно мне ничего этого представлять.
Когда Сережа слишком мне надоедал, я брал кисти, воду, акварельные краски, серый альбом для рисования и прятался от своего друга за огородами, под юными елками возле оврага. Рисовал желтоцвет одуванчиков, кучерявое облако клена над уснувшим закатом, серебром струящиеся ивы, повторенные в зеркале воды. Очень хотелось уловить искру схожести со всем этим природным изобилии цветов и оттенков, приблизиться к горизонту мечты, но мои акварельные краски ложились на бумагу слишком расплывчато, облака выглядели тяжеловеснее тополей, небо – темнее леса, и поэтому разочарование приходило очень быстро. Я понимал, что многому ещё нужно учиться, что многое придет ко мне только со временем, ещё не скоро, но не собирался сдаваться. Просто остывал на время. И слегка разочарованным человеком возвращался к Сереже. А Сережа тащил меня в очередное путешествие, сопряженное с обязательным преодолением трудностей. Иногда эти самые трудности начинали казаться мне тем самым событием, ради которого всё затевается. И так без конца. Пока вдруг не кончалось лето…
Осенью я вспоминал о затерянной во ржи таинственной деревне, где в столовой продают горячие пельмени, щи со свежей капустой и сдобные булочки, пахнущие ванилью; где по стенам развешаны аппетитные натюрморты и дремучие пейзажи. В погожие дни я выходил в поле за огород и, поднявшись на холм по колкой стерне, смотрел вдаль, надеясь разглядеть на горизонте белый дым печных труб или тёмный силуэт крыши какого-нибудь здания, но ничего не замечал. Кругом было пусто, светло и возвышенно. Кругом было только бесконечное синее небо да тоненькая полоска коричневато-зелёного леса над желтеющей лентой полей… Это стало лишним подтверждением того, что ничего не повторяется в этом мире дважды, даже поход в коммунизм.
***
Где-то в середине ноября выпадал первый снег. Он шел большими хлопьями медленно и безмолвно. Днем и ночью. А, может быть, ночью больше, чем днем. Шел, сглаживая острые углы, украшая покладистыми овалами всё тонкое и вычурное, всё неприглядное на вид. Шел, усыпляя.
Первые дни белоснежья завораживали и восторгали. Потом восторг притуплялся, и хотелось чего-то ещё более существенного, что внесло бы некое разнообразие в белое безмолвие зимы. Но ничего интересного вокруг не случалось. И постепенно приходилось привыкать к тому, что так сейчас будет всегда. Зима приучала к смирению и терпеливости. К тому, что изменить привычный порядок вещей может только Бог. Никакие усилия воли тут не помогут…
Сколько себя помню, в детской комнате на стене, как раз напротив моей кровати, всегда висела картина местного художника Самуила Дучека, написанная маслом и помещенная в красивую деревянную рамку. Зимой эта картина становилась особенно привлекательной. На картине был изображен ночной, мерцающий сквозь ветви деревьев пруд. Вода в пруду казалась коричневатой, пугающей, с торчащими из неё остатками деревянных свай, редкими кувшинками и кочками осоки. Эта картина казалась мне правдивой и сказочной одновременно. В ней было что-то притягательное и таинственное. Мне хотелось побывать в этой сказочной стране, там, где тихие летние ночи набухают яркими красками; где никогда не кончается лето и целыми ночами стоит в небе неяркий ультрамариновый свет.
Я заметил, что в разное время суток эта картина выглядит по-разному. Утром она радостная, вечером грустная, а ночью настораживающая. Что если приблизиться к ней вплотную, то можно ощутить сладковатый запах масляных красок, скипидара и чего-то ещё. Немного позднее я понял, что эта картина вызывает во мне странную ностальгическую грусть, как будто я всё это видел когда-то, прикасался к тем предметам, которые были на ней изображены, ощущал их запах. Постепенно я настолько привык к этой картине, что она стала для меня вторым окном в окружающий мир. Только это окно всегда было открыто, и за ним никогда не мелькали, изображая кривую линию, белые хлопья снега.
Однажды, движимый странным любопытством, я привстал на цыпочки, приподнял один край картины и заглянул за неё. Что там? Но, к моему изумлению, сзади картина представляла собой обыкновенный деревянный подрамник с натянутым на него холстом. Больше ничего.
Потом я заметил, что в солнечные дни коричневатые тона картины меня каким-то образом возбуждают. Что яркий свет луны, изображенный на картине в виде блестящей полоски на поверхности воды, освещает не только часть берега, часть воды, но и часть моей комнаты. То есть, картина стала выполнять для меня не просто роль интерьера, она стала частью меня самого, и поэтому в ней появилось нечто мистическое. Впоследствии, когда кто-либо отзывался о картине нелестно, мне это очень не нравилось, такого человека я не понимал и не хотел считать своим другом.
А художника Самуила Дучека я представлял себе немолодым, довольно высоким человеком с длинными тёмными волосами, с глазами полными загадочного огня. Я видел в нем натуру творческую, аристократичную, никак не связанную с реальной сельской жизнью. В моем представлении он должен был гулять где-нибудь среди высоких деревьев и цветущих трав с этюдником через плечо, в длинном черном плаще и такой же черной широкополой шляпе. Он просто обязан был выглядеть вызывающе нетрадиционно, по-особенному, как выглядят все люди, причастные к тайне творчества.
Но когда немного позднее мне пришлось увидеть его наяву, то я был сильно разочарован. Потому что легендарным для меня художником оказался небольшой лысоватый старикан в старенькой телогрейке и кирзовых сапогах, который каждый вечер приходил на пристань выпить кружечку пива и посидеть на одной лавке с местными мужиками. У него было бледное, худое, изрезанное мелкими морщинами лицо, грустный взгляд и жилистые руки. Он мало говорил, много курил, глядя куда-то вдаль, и даже когда ни с того ни сего улыбался, глаза у него оставались пронзительно грустными. Со стороны он мог показаться человеком одиноким и несчастным.
***
Пожалуй, наравне с родителями и учителями в моем сознании жил тогда добрый дедушка Ленин из далекого села Горки, затерянного где-то в холодных подмосковных лесах, где растут вперемешку сосны и ели, где перелетают с ветки на ветку красногрудые снегири и неподвижно сидят на высоких заборах сонные, упитанные вороны. Где дети ходят в гости к Ленину, а он радушно принимает их в старинном парке, под кронами огромных деревьев. По-стариковски шепеляво беседует с ними, интересуется их проблемами.
Почему-то, когда я думал о Ленине, память моя рисовала всегда широкую аллею заснеженного парка, высокое небо с редкими зимними облаками и маленького бородатенького дедушку у подножия могучих деревьев. Дедушка Ленин в тёмном, пропахшем нафталином пальто и такой же тёмной меховой шапке. Со всех сторон его окружают маленькие дети. Дедушка Ленин беседует с детьми на правах почетного Деда Мороза, которому всё по плечу. И дети очень благодарны ему за эту беседу, как рады и благодарны ему все люди на земле за то, что он принес им избавление. Правда, что это за избавление и от чего, я толком ещё не понимал. Зато мог запросто дорисовать эту сказку о Ленине до конца.
Я точно знал, что когда наступит зимний вечер, дедушка Ленин вернется к себе домой, растопит остывшую за день печь, как мой папа, поест картофеля с капустой и, взяв большое хозяйственное ведро с помоями, пойдет кормить прожорливого поросят. Потом даст сена быку и овцам. Потом вычистит у коровы навоз, натаскает в дом воды из колодца, и только после этого сможет вернуться к своим очень важным государственным делам. Так живем все мы. Так живут все наши соседи, все родственники. Так же, наверное, живет и дедушка Ленин…
Только много позднее я узнал, что дедушка Ленин, оказывается, давно умер, хотя и мертвый он почему-то оставался живее всех живых. Что Ленин – это образ, олицетворяющий собой всю нашу страну. Это образ Родины, с которой связано мое не такое уж далекое счастливое будущее.
Когда я научился читать и писать, я посвятил дедушке Ленину свое первое стихотворение:
Он пришел, и все вздохнули: «Ленин!»,Встали и захлопали в ладоши.Никогда он людям не изменитПросто потому, что он хороший.Потом был дедушка Ленин в широких рамах под стеклом, взирающий на нас с высоких стен общественных зданий. Дедушка Ленин на митинге, на броневике, на первом съезде Советов. Дедушка Ленин в бронзе, в гипсе и мраморе. Дедушка Ленин – философ, экономист, политик. Дедушка Ленин – человек, муж, оратор, пароход, завод, город.
Я был влюблён в курчавого и милого мальчика Володю Ульянова, который слыл шалуном и часто засыпал в кожаном кресле у папы в кабинете. Мне нравился юноша Ленин, гуляющий по волжским берегам с учебниками под мышкой и мечтающий перевернуть мир. Но в детской, ещё не замутненной никакими противоречиями, памяти всё же остался тот милый старичок, похожий на пожилого дворника. В детской памяти почему-то остался зимний вечер, великолепный парк, запорошенный ласковым невесомым снегом, высокий коридор из лип и маленький человек под этими липами, сумевший за несколько лет до неузнаваемости изменить всю Россию. Он бредет под тёмными кронами голых деревьев куда-то вдаль, такой крохотный и жалкий по сравнению с ними, такой неестественно маленький, что сердце начинает щемить от жалости к нему. И кажется, будто со стилизованных портретов смотрит на нас вовсе не он, не милый моему сердцу дедушка Ленин, а кто-то совсем другой, из которого хотели сделать божество, но немного перестарались. Переусердствовали. И получили тирана.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.