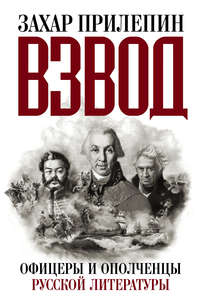Полная версия
Восьмерка (сборник)
Из состава под буйное июльское солнце вылезали разнообразные пассажиры.
В первом вагоне почти все почему-то были в пиджаках и с небольшими портфелями, удивился пацан. Зато в других вагонах люди оказались самыми разными, разнообразно и хорошо одетыми, многие с красивыми сумками на колесиках.
Люди, видимо, не понимали, куда идти, – и, чертыхаясь, стремились к концу состава, чтоб не стоять у него на путях.
Там, за составом, пассажиры и выстроились, будто собирались все вместе толкать его.
Пацан спешил вдоль состава туда же, но чуть ниже по насыпи, словно не решаясь спутаться с пассажирами. Он цеплялся за цветы, вырывая стебли.
Кто-то ругался с проводником, и проводник, почти плача, отвечал: «Разве я виноват? При чем тут я?»
Состав был уже совсем пустым – и так странно смотрелись его окна, лишенные человеческих лиц, спин, рук…
Только по одному вагону пробежал очередной испуганный проводник, а по другому шли двое военных, о чем-то разговаривая.
Когда состав закончился, пацан решился забраться чуть выше и заметил в толпе девочку. Та самая, сразу решил он. Тем более что девочка тоже смотрела на пацана, часто моргая.
Пацан, оборвав еще десяток-другой цветов, поднялся к ней.
– Я не зверь, – сказал он.
Девочка кивнула.
– Я Виктор, – добавил он. – Это мое имя.
На пацана смотрели многие пассажиры, хоть от него ожидая вестей – потому что ждать их было больше не от кого. Мобильные у многих не работали. Люди выкрикивали в них отдельные слова и потом снова остервенело тыкали в кнопки.
Кто-то поймал пацана за рукав, он обернулся и увидел сначала живот в белой расползшейся рубахе, а потом огромное, почти красного цвета мужское наклонившееся лицо:
– Ты местный? – спросил мужчина, дыша тяжело и пахуче. – Тут трасса есть?
Пацан молчал.
– Дорога есть? – громко переспросил он.
– Вон, – показал пацан, стремясь соскочить рукавом с мужского пальца.
Мужчина глянул, куда показал пацан, и увидел два изрытых, в огромных лужах, сельских пути: один путь от крайнего Бандерина дома до крайнего с другой стороны отцовского, другой путь – накрест, от околицы до котельной и кладбища.
– Всё? – спросил мужской голос, но пацан уже отцепился и поспешил дальше.
С другой стороны насыпи к составу поднимались колонной вспотевшие срочники, ведомые несколькими строгими офицерами.
У каждого на плече стволом вниз висел автомат. Пилотки были поддеты под погоны – то ли от жары, то ли они валились с голов, пока солдатики ползли наверх. Даже офицер нес фуражку в руках, сбивая ею слепней и обмахиваясь.
Мужчина с огромным лицом поспешил к офицеру, попытался и его подцепить за рукав, но тот, чуть дрогнув щекой, ответил внятным голосом:
– Транспорта нет, и не будет. Дорога от воинской части есть, но по ней почти никто не ездит. Пешком до точки вашего назначения триста пятнадцать километров. До ближайшей трассы тридцать.
– Там же останутся, в поезде, места! – сказал мужчина, но офицер, наконец, вдел голову в фуражку и, скомандовав: «В колонну по одному!» – первым поспешил к составу, ни с кем больше не разговаривая.
Срочники, словно стесняясь, шли меж пассажиров. Пацан смотрел на их бритые головы и вспоминал ромашки с оборванными лепестками.
По одному, как муравьи, срочники вползли в состав.
– В часть не положено! – отругивался где-то оставшийся здесь толстый и очень потный прапорщик. – Не положено! Военный объект!
Из нескольких дверей состава выглянули быстрые лица проводников.
Прошипев, состав закрыл двери и медленно тронулся.
Пацан поспешил вниз, словно опасаясь остаться наедине со всеми этими людьми.
Уже внизу он обернулся и увидел, как несколько человек тоже поползли вниз. У кого-то сорвалась тяжелая сумка и стремительно заскользила по траве – потом поймала кочку, и подпрыгнув, начала скакать во все стороны, ударяясь разными углами.
Из окна избы было заметно, как люди идут по завечеревшей улице.
Пацан выискивал глазами девочку, но никак не мог найти.
Зато все попадалась тетушка, которая с трудом волочила чемодан на колесиках, а тот залезал в лужу, и там колесики уже не крутились.
Тетушке помог один человек, второй, третий – а сумка все вредничала и норовила в грязь.
Кто-то поспешил к магазину, который, конечно же, был закрыт.
По нескольку человек останавливалось возле каждого дома. Больше всего у тех изб, что смотрелись строже, чище, больше. У Дудая встали многие, у Бандеры многие – и возле избы, где жил пацан, – тоже.
Стояли и смотрели в окна.
Пришедшие молчали – будто не были уверены, что селяне поймут их язык и вообще обладают речью.
– Москва пришла, собирай ужинать, мать, – засмеялся отец.
Восьмерка
Шорох позвонил в пять утра на домашний, говорил коротко, ненапуганно:
– Меня замесили трое в «Джоги», они до сих пор там, подъезжай, я наших обзвонил, скоро будут.
Обычно я сижу на диване тридцать секунд, прежде чем встать, – но тут сосчитал до трех и побежал к ванной. Зубы надо обязательно почистить, а то вдруг выбьют сегодня.
«Джоги» на другом конце нашего городка. Общественный транспорт в такое время возит только работяг – и то в обратную от ночного клуба сторону… если вызвать такси – оно тоже явится не раньше чем через двадцать минут… самый верный вариант – поймать тачку на дороге.
На том и порешил.
Джинсы, шершавая рубашка навыпуск, ботинки, куртка. Часы еще. Только браслет у них раскрывается, если сильно взмахнуть рукой. Минут через пятнадцать точно взмахну.
На улице холодно, седьмое марта, мерзость.
Ловя попутку, сильно жестикулировать нельзя, а то подумают, что пьяный, и не остановятся.
Нашел место между луж, поднял руку.
Работы в городе все равно нет никакой, калым был нужен многим, и тормознул самый первый. Второй тоже тормознул, но было поздно.
– Северный микрорайон, – сказал я водителю, заползая на задние сиденья.
Цену он не назвал, но у нас пятьдесят рублей – от края до края в любое время, так что не о чем торговаться.
Только тут я вспомнил, что денег у меня нет; мало того, их и дома не было.
Зарплату нам не платили уже три месяца, зато дважды выдавали паек консервами. Я ими до сих пор не наелся. Тушенка, пахучая, как лошадь, сайра, розовая и нежная настолько, что две банки за раз без проблем, консервированная гречневая каша с мясом – ледяная и белая, как будто ее привезли с Северного полюса. Если разогревать эту гречку – каша сразу становится черной, как будто ее сначала пережарили, а потом уже разложили по банкам, что до мяса – оно тает на глазах, и остается только жирная вода по краям сковородки. Чтоб все мясо не растаяло, приходится снимать сковороду с огня раньше времени – и глотаешь потом гречневые комки с одной стороны горячие, как огонь, а с другой – ледяные и хрусткие.
Но тоже вкусно.
– Куда так рано? – спросил водитель, который сначала, по местному обычаю, сидел с лицом неприветливым, как рукав телогрейки, а потом сам заскучал от своей хмурости.
– Езжай быстрей, жена рожает, – соврал я. Не было у меня никакой жены.
– Нашли время, – сказал он, почему-то снова озлобясь.
– Тебя ж нашли время родить… – сказал я, подумав. – …Вон к «Джоги» рули.
– Она у тебя в клубе рожает? – спросил он.
Отвечать мне не пришлось, потому что фойе клуба стеклянное – и пока мы подъезжали к ступеням, все происходящее успели рассмотреть.
Лыков, Грех и Шорох работали руками и ногами; те, над кем они работали, расползались по углам, как аквариумные черви. Стекло то здесь, то там было в красных мазках, странно, что его не разбили.
Я выпрыгнул из машины, и хмурый сразу умчал, тем самым разрешив мою проблему с оплатой его труда.
Когда я ворвался в фойе, никакой необходимости во мне там не обнаружилось. Победа была за нами как за каменной стеной. Даже пнуть кого-либо ногой не имело смысла.
Сама атмосфера в фойе была спокойной и рабочей. Лыков поднимал с пола борсетку, которую, наверное, сразу осмысленно выронил, как только вбежал. Грех хлопал по карманам в поисках зажигалки и никак не находил. Шорох гладил скулу и сосал губу.
Три вялых полутрупа лежали по углам. Один свернувшись, как плод в животе, другой ровно вытянувшись вдоль плинтуса, третий засунув голову меж коленей и все это обхватив длинными руками – так что получился почти колобок – толкни и покатится по ступенькам, никак не возражая.
Тот, что вдоль плинтуса, был без ботинок, который плод в животе – с оторванным воротником, а колобок сидел в луже крови и подтекал.
– Пойдем? – сказал Грех, наконец, прикурив.
Тут из клуба выглянул в фойе местный диджей, знакомый мне пугливый очкарик с неизменной слюной в уголках рта. Поводил глазами туда-сюда, то ли считая, то ли опознавая полутрупы.
Получилось так, что я стоял ровно посередь поверженных, а Грех, Лыков и Шорох уже у выхода – но с таким удивленным видом, как только что вошли. Завидев очкарика, Грех сказал мне, кивнув на битых:
– Ну, ты уделал пацанов, бес. За что хоть?
Я хмыкнул, довольный юмором.
Очкарик не без ужаса глянул на меня и пропал. Мои пацаны коротко хохотнули.
Лыков был чернявый, невысокий, похожий на красивого татарина парень, в юниорах брал чемпиона Союза по боксу. Дрался всегда спокойно и сосредоточенно, с некоторым задумчивым интересом: оп, не упал, оп, а если так, оп, и вот еще снизу, оп.
Грех, напротив, дрался, как чистят картошку в мужской компании, – весело, с шуточками, делая издалека длинные пассы и попадая в любую кастрюлю так, что холодные брызги летели во все стороны. Если прилетало ему – то стервенел, хватал что ни попадя с земли, потом сам не помнил, как дело было.
Шорох славился беззлобностью характера, почти всегда улыбался, щурились разноцветные глаза. Лицо у него было как будто обмороженное – оттого на его щеках всегда странно смотрелась щетина: бомжа напоминал. Но ему шло, мне он казался симпатягой, только девушки не всегда разделяли мое мнение. Что с них взять, дур.
Дрался он всегда будто бы понарошку, никого всерьез не желая обидеть, но вместе с тем умело и быстро.
Он вкратце рассказал, что доколебались к нему вообще без повода – опустевший клуб скоро уже закрывался, а Шорох сидел где сидел неподалеку от этой троицы и ленился идти домой – дома у него, без сна и покоя, шло постоянное родительское бухалово, которое он не разделял и видеть не хотел.
– Чего тебе надо тут? – спросил у него один из трех.
– Ничего, сижу, – сказал Шорох, улыбаясь.
– Вали отсюда, – сказали ему. Может, подумали, что подслушивает.
Шорох хмыкнул и остался сидеть, качая ногой.
Через три минуты эти вызвали его в туалет – «Ты чего какой непонятливый?» – и не смогли, придурки, даже свалить, хотя все были парни качественные, при плечах и шеях. Месили втроем, Шорох нырял, уходил, нырял, уходил, потом дыханье кончилось, забился в угол, но так и не упал, даже не присел – просто стоял, закрыв голову руками и пережидал, пока те, сменяя друг друга – тесно ж в углу, – бьют его ногами по ногам, норовя попасть в пах и в живот, и руками по рукам, но целясь по лицу.
Устав, они вышли из туалета, кинув напоследок:
– Ты все понял, да?
– Типа, да, – ответил Шорох.
Лыков и Грех жили близко. У Лыкова к тому же была «восьмерка» – подхватив Греха, он примчал через пятнадцать минут после звонка. А я через двадцать – и не успел.
Теперь податься нам оказалось некуда. Мы ж не из голден-майер фильмы – нам положено было б зайти в утреннее кафе и выпить там кофе, – но на кофе денег никто не имел.
На улице, как собаки, переругивались и тянули друг у друга мусор местные сквозняки; в машине оказалось немногим теплей – Лыков экономил бензин на печке, счетчик у него вечно был почти на нуле.
Жил Лыков с родителями в скромной, будто картонной двушке. Родители были, что называется, приличные – мать в шубке, отец в шляпе, интеллигенция. Мы и на порог туда не являлись, однако женское лицо в окне второго этажа я неизменно замечал, когда мы заезжали к Лыкову. Еще я как-то опознал лыковскую мать в очереди за дешевой курицей, – она сразу отвернулась, но в глазах и губах ее я успел заметить невыносимую муку. Преподаватель речи в театральном училище, она не должна была стоять в очереди никогда.
Грех обитался с бабкой и дедом тоже в какой-то малогабаритке. Бабка цель жизни видела в неустанном движении из продуктового в продуктовый: пользуясь своим бесплатным проездом она закупала капусту посочнее в одном конце города, а масло на рубль десять дешевле в другом – и все это тащила на себе. Дед тем временем засыпал в туалете и на стук вернувшейся бабки не реагировал. Несмотря на постоянство этих ситуаций, бабка всякий раз была уверена, что дед умер, и принималась неистово голосить. Грех, если был дома, взламывал дверь, а потом прибивал в туалете то новую щеколду, то крючок. Весь косяк был в этих крючках и щеколдах.
Только семья Шороха проживала в трешке, но там помимо пропойных родителей – бывших кадровых заводчан с похеренного завода – находились также младшие сестра и братик Шороха, на пропитание которых он вечно спускал почти всю зарплату, пока ее выдавали, а сейчас лично скармливал деткам по банке консервов, хранимых под кроватью в ящике, закрытом от отца с матерью на замок.
Шорох – прозванный так за то, что двигался беззвучно и появлялся всегда неожиданно, – часто заставал отца ковыряющимся ножницами в скважине и молча выдавал ему пинка. Отец вставал и, хватаясь пьяными руками за стену, убегал в сторону кухни.
Грех, как специалист по засовам, сделал и в комнате Шороха крючок – чтоб дети могли закрыться от пьяниц. Но папашка, пока не было Шороха, брал малы́х на жалость – садился под дверью и слезно мычал, что хочет рассказать сказку. Они его впускали, сказка быстро кончалась, начинались поиски гречки с мясом и заначек в одежках Шороха.
Однажды папашка продал кому-то ремень, тельник и черный берет Шороха, за что Шорох еще раз сдал на черный берет – только уже на отце.
Свой черный берет был у каждого из нас. Мы ж люди государевы, слоняющиеся без большой заботы опричники – омонцы, нищеброды в камуфляжной форме.
…Сделав кружок по райончику, расстались до вечера – все равно всем в ночную смену на работу.
Чтоб сэкономить лыковский бензин, я сказал, что хочу прогуляться.
Путь шел мимо дома Гланьки. Я посмотрел на ее окна. В окнах кто-то включал и выключал ночник, как будто задумался о чем-то то ли совсем неразрешимым, то ли вовсе пустячном.
Мы вернулись в «Джоги» уже ночью, в красивом шелестящем камуфляже, разнаряженные, как американцы в Ираке.
Грех заскучал кататься по пустому городу, когда в клубах тепло и шумно и вокруг молодых людей, имеющих на кармане деньги, клубятся разнообразные девушки.
– Праздник сегодня, – пояснил он. – Поехали найдем какую-нибудь красавицу и поздравим ее. Все сразу, а потом по очереди.
Шорох ответил со слышной в темноте улыбкой:
– Не, я сегодня уже был в клубе, – и остался в салоне перетирать с Лыковым за машины, колеса и прочие трамблеры.
При появлении двух камуфляжных бродяг по ночной клубной публике прошел брезгливый озноб – на несколько секунд все застыли, ожидая облавы и обыска, кто-то поспешно скинул порошок под стол, кто-то юркнул в туалет… нам, впрочем, было все равно.
Я сразу ее увидел, – потому что, едва мы вошли, бо́льшая часть танцующих молча покинули танцзал, – а она осталась.
Играла песня про «Голубую луну» – мне в очередной раз показалось забавным, как наше приблатненное, все на понтах и реальных понятиях юношество яростно зажигает под голубню.
Гланька была в черных брюках, в белой короткой рубашонке, на высоких каблуках, глазастая, с улыбкой, в которой так очевиден женский рот, язык, и эти, Боже ты мой, действительно влажные зубы.
Она не то чтоб танцевала, а просто не прекращала двигаться – немножко переступала на каблуках, четко, как маятник, покачивала головой, влево-вправо, влево-вправо, чуть заметно рука с тонким голым запястьем отбивала по воздуху ритм, потом плечиком вверх-вниз, шаг назад, шаг вперед и опять стоит напротив меня, как мина с часовым механизмом, которой не терпится взорваться.
Она что-то сказала мне, но сквозь «Голубую луну» ничего разобрать было нельзя.
Я кивнул, как будто расслышал, и все смотрел на нее, как рука отбивает ритм, как переступают каблуки и рот улыбается…
Она, наверное, немного издевалась над своими друзьями – Гланька давно дружила с натуральной, патентованной братвой.
«Вот смотрите, – говорил браткам весь ее вид, – смотрите, как балуюсь с ним, – а вы, хоть и ненавидите полицейскую сволочь, все равно к нам не подойдете и не заберете меня за столик от этого бродяги в камуфляже».
Ее, как мягкой волной, привлекло ко мне совсем близко, и, прикоснувшись своей щекой к моей щеке, она громко спросила меня:
– Ты что тут делаешь?
Волна уже пошла обратно, забирая ее, не прекращающую танца, и я успел сказать:
– На тебя смотрю.
Она тоже кивнула, словно услышала, хотя, кажется, не услышала – и еще немного станцевала для меня, а потом на танцполе так заметался свет, что она пропала – как будто ушла под воду.
Можно было бы пойти вслед, хотя бы по пояс забрести – но такие, как она, пираньи, не то чтоб рвут на волокна чресла наивным пловцам – это еще ладно, – они перекусывают какую-то непонятную жилу, без которой сразу не хочется жить, хотя некоторое время совсем не чувствуешь боли.
Я поспешил на улицу.
Грех тем временем пробрался в располагавшуюся над танцзалом кабину диджея и, завладев его микрофоном, объявил:
– Диджей имеет честь поздравить всех однополых товарищей, собравшихся в «Джоги» во имя женского праздника. В подарок мы предлагаем уважаемой братве трижды прослушать композицию «Голубая луна». Братва, не стреляйте друг в друга! Любите друг друга! Ласкайте друг друга! И к черту этих баб! Раз в году нормальный пацан имеет право побыть самим собой! Северный район приглашает буцевскую бригаду на танец!
Опять, но в два раза громче, безбожно хрипя, заиграла эта самая «Голубая луна». Кобла за столиками, услышав неожиданно и насмерть оборзевшего диджея, озирались по сторонам.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.