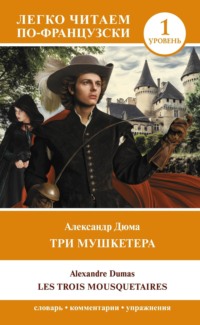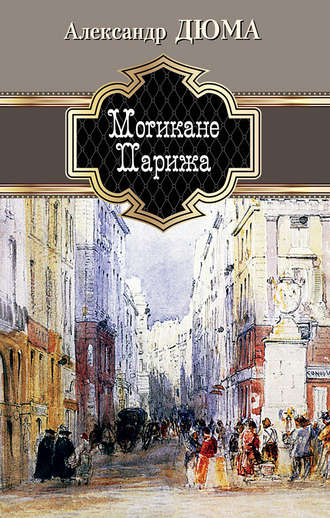
Полная версия
Могикане Парижа
– Поспешайте скорее, господин аббат! – произнес Баболен, исполнивший данное ему поручение, – только вас и ждут!
Минут через пять почтенный священник поравнялся с домом № 20. Жюстен и Мина поджидали его у дверей. Теперь Мина была уже не той маленькой девочкой, которую мы видели в предыдущей главе. Она выросла, сделалась красавицей и теперь приехала к Жюстену из пансиона г-жи Демаре, чтобы выйти за него замуж.
При виде этих двух прекрасных молодых людей священник остановился и улыбнулся.
– А! – произнес он про себя, – воистину, мой Боже, Ты создал их друг для друга.
Мина подбежала к нему и повисла на шее. Она знала его еще в те времена, когда этот добрый священник приходил навестить мадам Буавен и когда ей было всего восемь лет от роду.
Он обнял ее, а затем отошел несколько от нее, чтобы лучше разглядеть ее.
Он никогда не узнал бы в этой прелестной молодой девушке, готовой стать женщиной, то дитя, которое он шесть лет тому назад отправил в Париж в белом платьице, голубых ботиночках и голубом кушаке…
Нужно было еще пять минут ждать до отправления в церковь. Его ввели в комнату, где находилась уже мать Жюстена, сестра его, мадам Демаре – начальница пансиона, мадемуазель Сусанна Вальженез – подруга Мины и старый Мюллер.
– Наш дорогой кюре из Буйля, мама Корби, – представила его Мина, – г-н аббат Дюкорне.
– Да, да, – подтвердил аббат с сияющим лицом, – это я, которой пришел благословить вас и принес приданое этой красавице.
– Какое приданое?
– Да, приданое… представьте себе, что дня три тому назад я получаю письмо из Австрии и в этом письме перевод на получение десяти тысяч восьмисот франков от банкиров Руана Леклерка и Луи. К переводу приложено письмо.
– Письмо? – пробормотал Жюстен.
– Письмо? – также проговорила мадам Корби.
– А! Письмо, – произнес профессор, пораженный этим не менее мадам Корби и Жюстена.
– Вот это самое письмо.
И аббат развернул письмо, которое, действительно, было помечено иностранным штемпелем, и прочел следующее:
«Дорогой мой аббат!
Поездка моя в Индию была причиною того, что я должен был прервать мои связи с Францией и что Вы около девяти лет не имели обо мне никаких сведений. Но я Вас знаю; я знаю и достойную мадам Буавен, которой я доверил свое дитя. Мина не могла пострадать от этого.
Теперь, возвратясь в Европу и задержанный в Вене делами, не терпящими отлагательства, которые могут продлиться еще неопределенное время, я спешу переслать Вам перевод от банкиров Леклерка и Луи в Руане на сумму в десять тысяч восемьсот франков, которые я не мог Вам выслать ранее.
Кроме того, Вы получите еще до моего возвращения, дня, которого я не могу определить, сто двадцать тысяч франков, составляющих собственность моей дочери… Вена в Австрии. Отец Мины».
Мина захлопала в ладоши, и воскликнула:
– О, какое счастье, Жюстен! Папа мой жив еще!
Жюстен взглянул на свою мать. Она была бледна, поднялась со своего места и протянула руки по направлению к сыну.
– Ты понимаешь, не правда ли, сын мой, – произнесла она твердым голосом, – ты понимаешь?..
Жюстен не ответил: он плакал.
Мина глядела на всю эту сцену, ровно ничего не понимая.
– Но что с вами, мама Корби? – спрашивала она. – Что с тобою, Жюстен?
– Ты понимаешь, не правда ли, мое бедное дорогое дитя, ты понимаешь, – продолжала мать, – что ты мог жениться на Мине только тогда, когда она была бедной сиротой…
– Боже мой! – воскликнула Мина, начиная догадываться.
– Но ты понимаешь также, что ты не можешь жениться на Мине богатой и зависящей от отца? Это была бы кража, сын мой! – произнесла слепая, подняв руку к небу, точно призывая в свидетели Бога. – Ты не можешь жениться на ней без согласия отца!..
Жюстен опустился на колени перед своей матерью.
– Подведи меня к моему креслу, дитя мое, – чуть слышно произнесла слепая, – я чувствую, что силы мои оставляют меня.
Селеста подошла к ней.
– Но в чем же дело. Боже мой?! В чем же дело? – спрашивала Мина.
– Дело в том… дело в том, Мина, – произнес Жюстен, разражаясь рыданиями, – дело в том, что до того дня, пока отец твой не даст свое согласие на наш брак – а вероятнее всего, что он его никогда не даст! – мы можем быть друг для друга не более как брат и сестра.
Мина, в свою очередь, заплакала.
– О! – заговорила она. – По какому праву отец мой, которого я не знала, который кинул меня маленькой, признает меня только теперь? Пусть оставит он себе свои деньги, лишь бы оставил мне мое счастье! Оставил бы мне моего бедного Жюстена! Но не как брата, но, прости мне, Господи, как мужа!.. Жюстен!.. Жюстен!.. Мой возлюбленный, не покидай меня!..
И молодая девушка с болезненным криком упала в обморок на руки Жюстена…
Час спустя вся в слезах Мина уехала в Версаль, держась за руку своей подруги Сусанны.
XIX. Покорность провидению
Итак, брак Жюстена с Миной расстроился.
Жюстен спустился в свою крошечную комнатку. Все, что он уносил с собой со второго этажа, – это был венок из флердоранжа, который ему бросила Мина, сорвав со своей головы, при расставании с ним.
Добряк Мюллер спустился к Жюстену.
Что касается кюре, ему более нечего было делать в Париже; в шесть часов вечера он сел в почтовую карету, отправляющуюся в Руан, увозя с собою проклятые деньги, расстроившие счастье стольких лиц.
Сумрачное лицо ученика внушало Мюллеру серьезные опасения. В надежде развеять тяжелые мысли его он было принялся говорить с Жюстеном о школе, о времени, предшествовавшем моменту, когда тот встретился с маленькой девочкой. Но Жюстен, в свою очередь, вспомнил довольно обстоятельно, день за днем, ту блаженную жизнь, которую он вел в продолжение шести лет.
– Мы были слишком счастливы! – заключил он. – Я забыл, что мне всегда следовало быть готовым рано или поздно поплатиться за ту победу, которую я вырвал у моей злосчастной судьбы… Но не трудитесь успокаивать и ободрять меня, дорогой мой учитель. Не считайте меня способным на какое-либо темное решение… Разве я, прежде всего, принадлежу сам себе? Разве я не обязан заботиться о моей матери и моей сестре? Нет, нет, дорогой учитель, моя участь вполне выяснилась: я боролся и борюсь с бедностью, я буду бороться и с горем… Дайте несколько дней зажить моей ране. Позвольте уединиться на это время. Покорность судьбе, дорогой учитель, это сила для слабых, и вы увидите меня вновь вступившим в битву с жизнью, более крепким и более опытным.
Старый учитель вышел, пораженный, почти даже испуганный этой великой покорностью молодого чело века, но зато он вполне успокоился за последствия его отчаяния.
Проводив Мюллера, Жюстен вернулся в свою комнату и начал медленно ходить по ней взад и вперед, скрестив руки и опустив голову.
До трех часов утра ходил он таким образом по ком нате. Горе его сосредоточилось, если можно так выразиться, в груди его и душило его. Он бросился на постель; усталость взяла свое, и он наконец заснул.
По счастью, следующий день был вторник масленой недели, а потому он свободно мог отдаться своему горю, для того чтобы побороться с ним своими силами. Борьба длилась целый день. Под вечер, простившись с матерью и сестрою, он направился к тому месту, где прекрасной июньской ночью нашел во ржи малютку.
Теперь не было более видно ни васильков, ни мака, ни других полевых цветов: зима сковала землю так же, как горе сковало его сердце.
Надежды никакой ему больше не оставалось. Ему было ясно, что Мина принадлежала к какой-то богатой, аристократической семье, какой же шанс мог представиться для того, чтобы ее отдали за него, простолюдина и бедняка?
Он вернулся к себе домой в десять часов вечера, сделав пятнадцать лье за день, но не чувствуя ни малейшей усталости.
Его мать и сестра ожидали его, обе полные беспокойства.
Он вошел с улыбкой на лице, обнял их обеих и спустился в свою комнату, вынул из шкафа виолончель и ноты и заиграл ту самую торжественную и меланхолическую мелодию, которую услышали Сальватор и Жан Робер за два часа до начала этого рассказа…
Историю эту оба молодых человека слушали каждый под особым впечатлением.
Сальватор слушал его с кажущимся равнодушием, но Жан Робер не скрывал тяжелого впечатления, которое на него произвел этот рассказ. Оба они понимали, что всякие соболезнования и утешения здесь не имели смысла.
– Милостивый государь, – произнес наконец Жан Робер, – было бы недостойно и вас, и нас, если бы мы позволили себе предлагать вам банальные утешения… Вот наши адреса, и если вы когда-нибудь будете нуждаться в друзьях, мы просим вас отдать нам предпочтение перед другими.
С этими словами он вырвал листок из своей записной книжки и, написав на нем оба имени с адресами, передал его Жюстену.
В этот самый момент раздался сильный стук в двери.
Кто мог стучаться в эту пору? Ведь уже начинало светать. Сальватор, выходивший уже с Жаном Робером, отворил дверь.
Стучавшийся оказался ребенком тринадцати или четырнадцати лет, с белокурыми кудрявыми волосами, розовыми щечками и в немного изорванной одежде. Это был тип парижского гамена, в синей блузе, фуражке без козырька и в стоптанных башмаках.
Он поднял голову, чтобы взглянуть на того, кто отворил ему дверь.
– Так это вы, господин Сальватор, – произнес он.
– Зачем ты пришел сюда в эту пору, господин Баболен? – спросил комиссионер, дружески схватив гамена за воротник его блузы.
– Я принес г-ну Жюстену, школьному учителю, письмо, которое нашла Броканта этой ночью, во время своего обхода.
– Кстати, о школьном учителе, – сказал Сальватор, – ты ведь помнишь, что обещался мне выучиться читать к 15 марта?
– Ну что ж! Сегодня только 7 февраля: время еще есть!
– Ты знаешь, однако, что если ты не будешь в состоянии бегло читать к 15, то 16-го я отнимаю у тебя книги, которые дал тебе?
– Как, даже и те, с рисунками?.. О, господин Сальватор!
– Все без исключения!
– Ну, если так, то знайте, что мы умеем читать, – сказал ребенок.
И, взглянув на адрес письма, он прочел:
«Господину Жюстену, предместье Св. Якова, № 20.
Луидор награды тому, кто доставит ему это письмо».
Как адрес, так и приписка на письме написаны были карандашом.
– Неси скорей! Неси скорей, дитя мое! – Произнес Сальватор, толкнув Баболена в сторону помещения школьного учителя.
Баболен в два шага перешел двор и вошел с криком:
– Господин Жюстен! Господин Жюстен! Вот письмо!..
– Что нам делать? – спросил Жан Робер.
– Останемся, – ответил Сальватор, – очень возможно, что письмо это возвещает что-нибудь новое, и наше присутствие может быть полезно этому мужественному молодому человеку.
Сальватор не докончил еще своих слов, как Жюстен показался на пороге своей комнаты бледный, как привидение.
– А! Вы еще здесь! – воскликнул он. – Слава богу! Читайте, читайте…
И он протянул письмо молодым людям. Сальватор взял письмо и прочел следующее:
«Меня увозят насильно, меня тащат, не знаю куда! Спаси меня, Жюстен! Спаси меня, брат мой! Или же отомсти за меня, мой жених!
Мина».
– О, мои друзья! – вскричал Жюстен, протягивая руки к молодым людям. – Само провидение привело вас сюда!
– Ну, – обратился Сальватор к Жану Роберу, – вы так желали романа. Надеюсь, теперь он начинается, мой друг!
XX. Прямая короче ломаной
С минуту молодые люди переглядывались.
В первый момент их охватило оцепенение, но во второй самообладание уже вернулось к Сальватору.
– Прежде всего, хладнокровие, – произнес он, – дело, кажется, серьезное.
– Но ведь ее хотят похитить! – вскричал Жюстен. – Ее увозят!.. Она призывает меня к себе на помощь!
– Все это совершенно верно, а потому именно и нужно сперва узнать, кто ее похищает и куда увозят.
– О! Как узнать это? Боже мой! Боже мой!
– Все узнается со временем, только нужно терпение, мой дорогой Жюстен. Вы ведь уверены в Мине, не правда ли?
– Как в самом себе!
– Если так, будьте спокойны: она сумеет защитить себя… Баболен здесь еще?
– Да.
– Спросим его.
– В самом деле, – подтвердил Жан Робер, – с этого мы и должны начать.
Все вернулись в комнату школьного учителя.
– Прежде всего, – сказал Сальватор, – дайте луидор этому ребенку для его матери и сколько-нибудь мелочи ему самому.
Жюстен достал из рваного кошелька два луидора и две пятифранковые монеты, которые и передал Баболену.
Но Сальватор овладел рукою ребенка в тот самый момент, как она взяла протянутое ей, насильно раскрыл ее и, к великому отчаянию Баболена, отнял у него один из луидоров и одну пятифранковую монету, возвратил их Жюстену.
– Положите эти двадцать пять франков в ваш кошелек обратно, – произнес он, – через час они, может быть, вам пригодятся.
Затем, повернувшись к ребенку, он сказал:
– Где твоя мать нашла это письмо?
– А я почем знаю? Спросите ее сами, – ответил Гамен недовольным тоном.
– Он прав, – сказал Сальватор, – об этом, конечно, нужно спросить ее. Очень возможно, что она рассчитывает на ваше посещение… Позвольте! Укрепим хорошенько наши батареи… Господин Жюстен, вы должны последовать за этим ребенком к его матери.
– Я готов.
– Погодите… Жан Робер, достаньте оседланную верховую лошадь и приезжайте на ней на Кишечную улицу, № 11.
– Я же отправлюсь сделать заявление в полицию.
Я знаю того человека, который нам может быть нужен… Затем мы встретимся с вами на Кишечной улице № 11, у матери этого ребенка, и там обдумаем дальнейший план наших действий.
– Пойдем, малютка, – сказал Жюстен.
– Оставьте предварительно записку для успокоения вашей матушки, – продолжал Сальватор, – очень воз можно, что вы вернетесь домой очень поздно или даже и вовсе не вернетесь.
– Вы правы, – заметил Жюстен. – Бедная мать! Я забыл о ней.
И он набросал наскоро несколько строк на лоскуте бумаги, который и оставил открытым на столе в своей комнате. Он извещал свою мать без дальнейших объяснений, что полученное только что им письмо потребовало у него в свое распоряжение целый день.
– Ну, теперь идем, – сказал он.
Все трое молодых людей вышли из дому. Было не более половины седьмого утра.
– Вот ваш путь, – сказал Сальватор, показав Жюстену вдоль улицы Урсулинок. – Вот это ваша дорога, – прибавил он, указывая Жану Роберу на Грязную улицу, – а это моя дорога, – продолжал он, направляясь на улицу Святого Якова.
Кишечная улица, как известно каждому, это не что иное, как переулок, идущий параллельно Щепенной улице.
Весь этот квартал напоминал в то время Париж времен Филиппа-Августа. Лужи грязи, окружавшие стены тюрьмы Св. Пелагеи, придавали этому зданию вид древней крепости, построенной среди острова. Эти улицы, шириною не превосходившие восьми или десяти футов, были завалены кучами навоза и мусора. Короче говоря, это были клоаки, где прозябали несчастные обитатели этих кварталов в зданиях, более похожих на чуланы, чем на дома.
Перед одним из таких чуланов Баболен остановился.
– Вот здесь, – произнес он. – Ухватитесь за край моей блузы.
Жюстен ухватился за подол блузы Баболена и, шаг за шагом, стал влезать по крутым уступам, претендовавшим на название лестницы и ведшим к помещению Броканты.
Они достигли двери конуры. Жилище Броканты, казалось, во всех отношениях оправдывало это название: лишь только они поднялись на площадку, раздался пронзительный лай дюжины собак, которые тявкали, рычали и визжали на все голоса, точно свора гончих, напавшая на след.
– Это я, мама, – произнес Баболен, сложив свои руки наподобие слуховой трубы и приставляя их к замочной скважине. – Откройте! Я с гостем!
– Замолчите вы, бешеная сила! – раздался из комнаты голос Броканты. – Ничего не слышно… Да замолчишь ли ты, Цезарь!.. Замолчите вы все!
И при этой команде, произнесенной угрожающим голосом, водворилась полнейшая тишина.
– Ты можешь войти теперь, ты и гость твой, – послышался опять голос.
– А как?
– Тебе стоит только толкнуть дверь: засов не задвинут.
Баболен приподнял защелку, толкнул дверь, в которую пропустил Жюстена, и глазам их представилось зрелище, которое, хотя и не было очень поэтичным, тем не менее, заслуживает нескольких слов.
Это был не более как чердак с осевшей, ветхой крышей. С дюжину собак: догов, пуделей и других пород – обитали в одном из углов комнаты, причем вся эта дюжина была заключена в старую корзину из прутьев, в которой их могло поместиться свободно не более четырех или пяти.
На крестовине, образуемой двумя бревнами, поддерживавшими крышу, сидела ворона, которая махала крыльями, вероятно, выражая тем свою радость во время концерта, устроенного собаками.
На скамейке, прислоненной к нижнему основанию бревна, под подобием полога из лоскутьев материи всех цветов, который поднимался по стене на высоту трех или четырех футов, сидела женщина, на вид лет пятидесяти, высокая, худая и костлявая. Между ее ногами стояла на коленях девочка, которой старуха с особым старанием расчесывала ее длинные черные волосы.
Вся эта сцена, не лишенная своеобразной живописности, освещалась глиняной лампой, поставленной на опрокинутую корзину и похожей по своей форме на те римские светильники, которые находят при раскопках Геркуланума и Помпеи.
Старая женщина, которую Баболен назвал именем Броканты, была одета в темное платье, до того густо покрытое разными заплатами, что представляло собою оттенки всевозможных темных цветов, точно образчики материй портного.
Девочка, которую она держала меж ног своих, была одета только в рубашку из небеленого холста. Рубашка эта имела вид блузы, перетянутой в поясе подобием веревки серо-лилового цвета; шея и грудь ребенка были прикрыты совершенно изорванным вишневым шерстяным шарфом. Ноги ее были босы.
Что касается ее лица, которое она повернула в сторону двери в тот момент, когда вошли Баболен и школьный учитель, то оно отличалось той болезненной бледностью, которая свойственна бедным, чахлым растениям наших предместий. Черты ее лица отличались порази тельной правильностью и тонкостью; но исхудалые контуры этой изможденной фигуры, глаза, окруженные синевой, впалость их орбит, беспокойство во взгляде, худые щеки этого, казавшегося тридцатилетним ребенка – все это вместе взятое производило какое-то странное и фантастическое впечатление, которое, вероятно, дало бы нашему другу Петрюсу, если бы он очутился перед этою очаровательною моделью, мысль воспользоваться ею для изображения Медеи в детстве.
Скажем теперь из опасения спутать наш рассказ, – так как, в конце концов, история Жюстена и Мины не более как эпизод, – скажем теперь, что было известно об этом загадочном и поэтичном существе.
Мы найдем впоследствии Баболена и школьного учи теля на пороге комнаты, в которой мы их и оставляем.
XXI. Рождественская роза
Однажды вечером, около десяти часов, Броканта воз вращалась в маленькой тележке, запряженной ослом, с бумажной фабрики Ессона, где она продала тюк тря пок. Вдруг она увидела показавшуюся с краю дороги и как будто вышедшую из канавы фигуру ребенка, который бросился к ней с распростертыми руками, бледный, запыхавшийся, дрожащий всем телом и с выражением самого глубокого ужаса на лице.
– Помогите! Помогите! Спасите меня! – кричал он. Броканта принадлежала к числу тех цыган, которые имеют особую манию похищать детей, как хищные птицы похищают жаворонков и голубей. Она остановила своего осла, соскочила с тележки, взяла девочку на руки, вскочила с нею обратно и стала погонять осла.
Событие это, быстрое как мысль, произошло в пяти лье от Парижа, между Жювизи и Фроманто.
Занятая лишь тем, чтобы скорее удалиться, Броканта вздумала взглянуть на ребенка не ранее, чем сделав приблизительно около четверти лье рысью на своем осле.
Девочка была с непокрытой головой. Ее длинные косы, распустившиеся или во время бега, или во время борьбы, ею выдержанной, болтались позади, по лицу струился пот. Все свидетельствовало о далеком пути, проделанном ею через поля, а ее белое платье было сплошь испачкано кровью, сочившейся из неглубокой, к счастью, раны, которая, казалось, была нанесена, или, скорее, ее пытались нанести, каким-то острым оружием.
Очутившись в тележке, маленькая девочка, имевшая на вид не более пяти или шести лет, воспользовалась тем, что обе руки Броканты были заняты вожжами, и со скользнула с колен женщины на дно тележки, и на все вопросы, обращаемые к ней, повторяла лишь одно и то же:
– Она не бежит за мной? Она не гонится за мной?
На это Броканта, которая, казалось, боялась погони не менее ребенка, украдкой высовывала из тележки свою голову, покрытую холщовым чепцом, оглядывалась на дорогу и, не видя на ней никого, уверяла в этом ребенка, у которого страх был до того велик, что боль, причиняемая раной, видимо, представлялась ей не стоящей внимания мелочью.
Около полуночи – так сильно Броканта, разделяя волнение девочки, погоняла своего осла – около полуночи достигли они заставы Фонтенбло.
Остановленная у решетки стражниками, Броканта высунула только свою голову и сказала: «Это я, Броканта», и так как стражники уже привыкли видеть ее проезжающей раз в месяц с грузом тряпок и затем на следующий день возвращающейся с пустой тележкой, то и пропустили в город старуху с ребенком беспрепятственно.
Что касается девочки, присевшей на корточки или, скорее, свернувшейся клубком на дне тележки, то, как мы уже сказали выше, она не подавала никаких других признаков своего существования, как только время от времени с ужасом спрашивала Броканту:
– Она не гонится за мною? Скажите, она не гонится за мною?..
Едва она успела выйти из тележки, как устремилась в коридор, достигла лестницы и побежала по ее ступеням так быстро, как бы это мог сделать самый проворный котенок.
Броканта поднялась за нею, отворила дверь своего чулана и сказала ей:
– Войди сюда, малютка! Никто не узнает, что ты здесь, будь же покойна.
Броканта захлопнула дверь и заперла ее на ключ; затем спустилась вниз, чтобы поместить свою тележку под навес, а осла – в конюшню.
Вернувшись, она зажгла огарок свечи, вставленный в разбитую бутылку, и, осветив себя этим слабым ночником, стала осматривать бедную маленькую беглянку. Девочка пробралась ощупью в самый отдаленный уголок чердака, опустилась на колени и начала молиться.
Броканта ее окликнула, но малютка отрицательно покачала головой.
Старуха за руки притянула ее к себе и начала расспрашивать. На все вопросы ребенок твердил лишь одно:
– Нет, она убила бы меня!
Таким образом, Броканта не могла узнать, ни откуда родом было дитя, ни того, кто были ее родители, ни ее имени, ни того даже, за что ее хотели убить и кто нанес рану, оказавшуюся на ее груди.
Малютка в течение почти года хранила полнейшую немоту. Лишь во время сна, под влиянием кошмаров, она иногда вскрикивала:
– О! Пощадите, пощадите, мадам Жерар! Я вам не делала зла, не убивайте меня!
Единственное, что можно было узнать, это имя женщины, пытавшейся убить ее, – мадам Жерар.
Что же касается девочки, то ее, конечно, нужно было называть каким бы то ни было именем, и так как она была бледна, точно роза, цветущая среди зимы, то Броканта, нисколько не сомневаясь в поэтическом имени, которое она ей давала, назвала ее «Рождественской Розой».
Так это имя и осталось за нею.
В тот вечер, видя, что дитя не хочет ничего сказать, и в надежде, что оно будет назавтра разговорчивее, старуха указала ей нечто вроде плохой кровати, на которой спал ребенок одним или двумя годами старше ее, и велела улечься рядом с ним.
Но она наотрез отказалась. Ясно было, что цвет матраца и грязное покрывало вселяли отвращение девочке. Ее тонкое белье и элегантный крой платья показывали, что она происходила далеко не от бедных родителей.
Она взяла стул, прислонила его к стене и уселась на нем, уверяя, что ей тут отлично. И действительно, она провела всю ночь на этом стуле.
Около шести часов утра, пока ребенок еще спал, Броканта встала и вышла из дома.
Она направилась в сторону улицы Св. Медара, чтобы купить полный костюм для девочки. Этот полный костюм состоял из платья голубой бумажной материи с белыми точками, из желтого платка с красными цветами, детского чепчика, двух пар шерстяных чулок и одной пары башмаков.
Все это вместе стоило семь франков. Броканта рассчитывала наверняка продать все старое платье девочки за плату вчетверо большую.
Час спустя она возвратилась со своею покупкою и нашла девочку по-прежнему примостившейся на соломенном стуле и отказывавшейся поиграть с Баболеном.
Когда ключ повернулся в замке, девочка задрожала всем своим телом, а когда дверь отворилась, она стала бледней смерти.