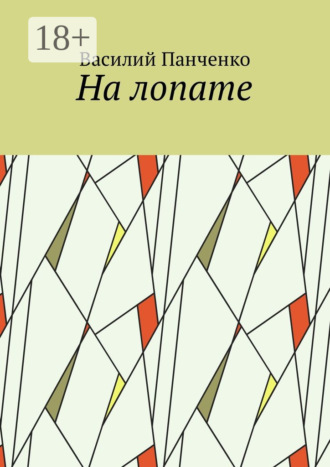
Полная версия
На лопате
Первыми, в силу сплоченности, опомнились «азеры». Они самоустранились от всех забот, подкрепляя свои права кулаками и численным перевесом в каждой конкретной точке конфликта. «Русские», выступали поначалу каждый за себя, и конечно проигрывали по всем пунктам. Быстро сообразили, что нужно объединять усилия. Несколько крепких физически парней, до армии успевших побывать под судом, сумели объединить вокруг себя остальных, среди них заводилой был парень по кличке Старый. Ему было аж 27 лет! Из которых, три года он провел на зоне. Переворот назначили на два часа ночи. Сонные «азеры» были избиты, но на этом война не закончилась. Через несколько дней один из вождей «азеров» ударил ножом в драке один на один организатора «русского» переворота. Власть – «Шишка», как говорили в отряде, – стала валиться из рук. «Подрезанного» парня отправили в госпиталь, якобы он баловался с ножиком и на него сам наткнулся. Командиры, как-то удивительно не в курсе того, что происходит к них под носом, даже невзирая на некоторое количество стукачей. Видимо стукачи, не решились о таком стучать, вопрос принципиальный можно и самому на ножик «случайно» наткнуться.
После отбоя враждующие группировки собрались выяснять отношения, начались «разборки». К «азерам» частично присоединились «урюки», в целом человек сто пятьдесят, к славянам примкнули угро-финны, татары, короче все представители народов Российской Федерации и кавказцы, среди которых особенным пылом отличались чеченцы, примерно человек триста. В таких делах важно не количество, а вожди, а они у «русских» появились. Разговор постепенно зашел в тупик. «Азеры» пригрозили взяться за ножи. На этот демарш Старый ответил: «Нас больше, и если мы в ответ за ножи возьмемся, вас в капусту порежем!». Длинные переговоры в которых принимали участие только лидеры, остальные даже не видели, что там происходит, снижали накал решимости. Старый, вероятно чувствовал это, так все проиграть можно. Тогда он обернулся к своим и громко сказал историческую фразу: «Да что мы с ними базарим! Они парня подрезали. Бей их мужики!». Старый говорил и одновременно нанес мощнейший удар с разворота ближайшему врагу и свалил его с ног. Тут все с воем кинулись вперед. Сопротивление почти не оказывалось. Выбитые зубы, сломанные челюсти и носы в итоге смена власти. Как и положено в любой революции, плодами победы воспользовались избранные. Унижение одних сменилось унижением других. Куликов слушая эти рассказы, думал, что в целом все это безобразие, конечно. Но в историческом плане – именно так империи и создаются. Основным источником, был «комсомолец» Кулыгин. О своей роли в войне он умалчивал. Тогда Куликов спросил его:
– Ты тоже участвовал в этой битве?
– Скажем так, я там присутствовал. Не в первых рядах. Ну, так пару раз кого-то пнул, раз мне в ухо прилетело. В общем вошел в число ветеранов. Тут ведь в стороне отсидеться не получится ты или со всеми или тебя затопчут свои же. Выбор не велик. Зато теперь у нас на Горпухе, не райские кущи, но крайностей тоже нет. Ты просто не представляешь, какой беспредел, был тут до этой войны. Сейчас все знают свое место и пределы допустимого. Для нормального человека – это тоже дурдом, но в нем есть свой порядок и место для выживания каждого индивидуума. Вот, чмошники, их ведь в петлю не пытаются загнать, так пнут слегка, чтобы не расслаблялись и знали свое место. А было иначе. – Кулыгин, задумался. – Да было значительно хуже. Дедовщина придавлена национальным вопросом и не принимает звериного облика. До вот этой нашей революции, тебе может показаться странным, но тут царил просто ужас, а теперь всего лишь обыкновенный кошмар.
– Ты слышал, что узбеку, тощий пацан, из моего призыва, безобидный, почки отбили? – Спросил Куликов.
– Видишь ли, – ответил задумчиво Кулыгин. – Я, как и ты могу лишь наблюдать со стороны за всем, что у нас происходит. Большого влияния на ход дел я не оказываю. Мне многое тут не нравится и я бы предпочел пройти все это заочно. Если честно. «Блатные» и «приблатненные», вот хозяева казармы, они задают тон, они выбирают немногих как объект для издевательств. Показывают всем остальным, кто хозяин. Из-за пустяка, этот узбек попал под раздачу. Недостаточно быстро выполнил распоряжение. Семеро «приблатненных» отбили ему почки. Его комиссуют, я в штабе слышал. Он настолько запуган, что даже инвалидность не заставила его назвать тех, кто его бил. Неожиданно прокуроры заинтересовались, и замять это дело, видимо, не удастся. Двое под следствием.
– Разве это что-то изменит? – Усомнился Куликов.
– Горбатого могила исправит, – согласился Кулыгин. – Командование борется с последствиями, а не с причинами. Что толку пугать дисбатом того, кто без чифира утром с постели встать не может, а пьют почти все поголовно, даже «истинные» мусульмане. Свинину не ест, а выпить не откажется. Тут одного парнишку изнасиловали, пользовались некоторое время. Командиры узнали, перевели его в другую часть. Никого не посадили. Зачем лишней судимостью показатели портить. Вообще, – рассуждал Кулыгин, – «блатные» менее опасны, чем «приблатненные». «Блатные» уже сидели, знают, что это такое и не хотят опять на нары, поэтому осторожны. «Приблатненные» не сидели и потому без тормозов.
Поднять одеяло
В связи с холодом в казарме, пошла эпидемия «поднимать» одеяла. Блатные, пользуясь влиянием на каптерщика, брали в каптерке по два-три тощих одеяла и особенно не страдали. Все остальные тащили одеяла друг у друга. Ночью снимали со спящих. Обворованные, скорчившись от холода, спали под одной простыней. Проснется, оденется и спит в одежде.
У Куликова два раза «подняли» одеяло. Оба раза он обращался к старшине роты. Бывший моряк мичман, с криво посаженной на толстую шею головой, имел обыкновение смотреть как-то исподлобья. Набычившись. За эту привычку солдаты за глаза прозвали его «Бык». Мичман Бык, в первый раз, без лишних разговоров выдал Куликову одеяло, в каптерке их было великое множество. Второй раз на просьбу Куликова мичман Бык набычился сильнее обычного и сказал:
– За что я не люблю вас с высшим образованием, так это за то, что мы ходим по земле, а вы витаете в облаках. – Мичман расшифровал свою мысль, – у тебя подняли одеяло, и ты не зевай.
– Так что, воровать что ли? – спросил Куликов.
– Это меня не касается, воровать – не воровать, привязывать, прибивать, но одеяло я тебе в последний раз выдаю.
– Спасибо.
– Тьфу, – сплюнул мичман Бык, – на хрена мне твое спасибо? Для меня это слишком много, спасибо.
Когда у Куликова, через два дня в очередной раз «подняли» одеяло, он не пошел к мичману Быку, он пошел в угол казармы, где спали «блатные» и снял одно из трех одеял с чьей-то кровати. Благо, что одеяла все одинаково серые и отличить их весьма сложно, а «поднять» одеяло у «духа» Куликову было неудобно перед своей совестью. А тут очень хорошо взял одно из трех. Операция прошла незаметно. Куликов этот свой демарш с «поднятием» одеяла подвигом не считал, но и большим грехом тоже. Хотя если бы кто-то заложил его «блатным» у Куликова могли быть серьезные неприятности. Вероятно мичман Бык, если бы знал, то прослезился. Его наука, «ходить по земле, а не витать в облаках», давала плоды.
Первая рота выгодно отличалась от учебной роты уютом в спальных помещениях. Аквариум с разноцветными рыбками, длинные дорожки на полу, чистота, в спальне ходили босиком, сапоги оставляли в коридоре. Немалая заслуга в этом была старшины роты мичмана Быка и вечно шуршащих вениками «духов».
Старшина мичман Бык накладывал морской отпечаток на всю роту. Бывший моряк все же. Морская романтика заключалась не только в образцовом порядке, она проникла в лексику роты. Спальное помещение – кубрик, столовая – камбуз. Старшина никогда не посылал провинившегося солдата мыть лестницу, обязательно трап. Табуретку называли баночка, кровать – коечка, туалет – гальюн, кокарда – краб. «Какая-то конно-морская авиация кирпичного боя». – Шутил по этому поводу Кулыгин.
После работы первую роту не обременяли строевыми занятиями, как например, третью роту расположенную этажом ниже. Командир роты капитан Серов, тихий, «как могила Шаляпина», – так пошутил все тот же Кулыгин, собиравший в свою актерскую коллекцию характеры, он надеялся вернуться в театр и покорить не только зрителя, но и сердце дочки директора. «Серов, служил в Афганистане, был ранен, такой героический персонаж, – просвещал Кулыгин, – возможно, поэтому он видит в солдатах людей, или почти людей. А командир третьей роты, капитан Малинкин, считает, что солдат должен испытывать постоянные неудобства, лучше мучиться. Хорошо, что ты туда не попал, они вон день, через день после работы еще и маршируют по плацу».
Куликов, посмотрел в окно кабинета комсомольца Кулыгина в штабе отряда, по плацу маршировала третья рота под речитатив «непобедимая и легендарная…»:
– Да, действительно в третьей роте, опять дискотека. – Повторил Куликов дежурную шутку первой роты по поводу бесконечных строевых занятий третьей роты.
Вечерами Куликов иногда заходил к Кулыгину, а чаще читал газеты, писал письма, смотрел телевизор в Ленинской комнате роты. Письма писал домой жене, родителям, родственникам даже довольно дальним, с которыми практически и связи никакой не поддерживал. Он рассчитывал, что они все напишут что-то в ответ и таким образом какая-то радость будет. Получить в армии письмо, не слишком обремененное гражданскими проблемами, это в любом случае радость. Цветной телевизор рота купила вскладчину с солдатской семирублевой получки. Поэтому, как ни странно, смотреть телевизор никому не запрещали вне зависимости от срока службы.
Куликова не трогали, он не вписывался в казарменную жизнь с ее законами. Точнее он нашел какую-то никем не занятую нишу в этом лесу населенном различными «животными», некоторые из которых были довольно опасны. Учитывая, что Куликов вел себя ровно со всеми, не выделяя, кто перед ним «блатной авторитет – медведь или волк», или «зачмуренный изгой-заяц», был одинаково вежлив, не ругался матом, хотя на нем все вокруг просто говорили. Возможно, инстинктивно все эти «львы», «медведи», «волки» и прочие «шакалы» увидали в нем какое-то странное животное, заброшенное в их лес волею случая, черт знает, что от него можно ждать от этого типа «жирафа». Поэтому и не трогали, других объектов хватало. А этот «жираф» мог даже быть полезен, как вскоре оказалось. В каких-то случаях Куликов разводил сгущающиеся тучи, спокойным тоном поясняя суть проблемы с уклоном в морально-этическую сторону происходящего. Он говорил так, как это принято в школе у заслуженных и перезаслуженных учительниц – старых умудренных опытом тортил. Видимо казарменным хулиганам – это напоминало «мычание» «священных коров», они ведь тоже учились в школе. А «священную корову» инстинкт и табу запрещают трогать.
Куликов старался не нарываться на неприятности, но твердо отстаивал свои позиции. Один из «приблатненных» обратился с вопросом «был ли кто-то из американских президентов Героем Советского Союза». На первый взгляд странный вопрос, но учитывая, что в стране свирепствовала Перестройка и Гласность, кавардак в головах неокрепших разумом людей был изрядным. Радио, телевизор, поливали исторической правдой население отчего у некоторых вообще ум за разум стал заходить.
Разговор получился следующий:
– Эй, очкарик! Кто-нибудь был из президентов штатов героем Союза, а?
Куликов выдержал паузу и спокойно ответил, отложив газету:
– Меня зовут Владимир. Очкарик, согласись, звучит как-то невежливо. А тебя как зовут?
«Приблатненный» пацан просто не знал, как на это реагировать и сказал:
– Костя…
– Очень приятно, Константин, – сказал Куликов и дал исчерпывающую справку о генерале Эйзенхауэре и его ордене «Победа». Все это происходило в присутствии многих солдат. Понял или нет Костя, что обзываться нехорошо, однако, больше никто очкариком Куликова не называл.
Два раза в неделю в клубе показывали старые фильмы с болванами-фашистами и молодцами советскими разведчиками. Обычно сеансы сопровождались дружным храпом зрителей. Стройка, темень, тепло, много раз просмотренный фильм усыплял лучше снотворного.
В субботу политзанятия, каждый взвод занимался отдельно. Сержантов начальник штаба Корбу, очень толстый, похожий на бочку кваса затянутую в не по размеру маленький мундирчик. Корбу – любил поучать, не мог пропустить мимо себя солдата, чтобы не прочитать ему какую-то банальную нотацию. Поэтому встречи с ним старательно избегали все, даже мичманы и прапорщики, не говоря уже о сержантах и солдатах. Сержантов командование выделяет из общей массы. Главный критерий отбора сержантов – сила. Власть, данную сержанту Уставом, подкрепляли физической силой. В немногих случаях сила совпадала с другими человеческими свойствами.
Нужно обладать твердыми представлениями о добре и зле, чтобы в восемнадцать лет, не имея опыта, пользоваться властью над людьми. Устав предписывает сержантам обучать и воспитывать солдат. Чему Куликова мог обучить сержант, которого самого ничему не научили. Военных строителей ничему военному не учили. Учить некогда, нужно выполнять план строительства. И все же по Уставу «Подчиненные обязаны бесприкословно повиноваться начальникам». Выделяя из массы, командиры прямо или косвенно внушают сержантам их значительность. Некоторые сержанты не выдерживают испытания, начинают верить в свою непогрешимость. Спасает «дедовщина», слишком зарвавшихся кулаками ставят на место. Не помогает и то, что сержантов в основном выбирают из физически крепких ребят. «На каждого богатыря есть свой «винт». – Сказал Кулыгин, когда они с Куликовым обсуждали тему «сержанты и их место в стройбате», при этом Кулыгин налил Куликову полстакана домашнего вина приобретенного по случаю на базарчике около почты. Кулыгин, будучи младшим сержантом и штатным «комсомольцем» отряда был обязан ходить на почту отправлять письма, посылки, и приносил соответственно с почты письма и мог проводить солдата для получения посылки.
Еще в учебной роте Куликов столкнулся с отношением офицеров к сержантам. Ерошин (Менстрик) спросил сержанта Олегова, командира отделения «духов», восемнадцатилетнего непосредственного начальника Куликова, где солдаты его Олегова отделения. Олегов, пор натуре добрый парень, ставший сержантом благодаря выпиравшей из-под гимнастерки мускулатуре (результат серьезного увлечения плаванием), растерялся. Олегов был в тот день дежурным в столовой и просто не знал, что все сидят в техклассе и Устав «читают». Куликов попытался выручить Олегова, с которым немного подружился, и сказал, что все сидят в техклассе. Ерошин, не обращая внимания на пояснение, не для этого он спрашивал Олегова, бросил фразу из которой Куликов все понял: «Какой-то солдат знает. А сержант не знает, где его люди». Вот это «какой-то солдат» все прояснило для Куликова, не надо отвечать на вопросы, ответы на которые тебе знать не положено. В царской армии солдат мог ответить «не могу знать, ваше благородие!». Благородия погибли на Перекопе, вместе с благородством. Офицеру, который не проявляет человеческих качеств по отношению к солдатам, типа Менстрика, бесполезно что-либо у солдат спрашивать. Ни кто ничего не знает, а если даже знают – не скажут, хоть пытай.
Трудный день
Самым тяжелым днем для Куликова стало воскресенье. Время словно замирало. Делать нечего. На поверхность всплывала тоска по дому. Увольняшки – увольнительные записки в город выдавали скупо. Первый месяц «духов» вообще не пускали в увольнение. Приходилось сидеть в части, глядеть на высоченный забор, отделявший от гражданской жизни. Мичман Бык и капитан Серов разрешали по воскресным дням спать, сколько влезет. Единственное требование, раздеваться и ложиться под одеяло. Лежать одетым строго запрещено. Кое-кто в виде компромисса, забирался под одеяло одетым. Так в холодной казарме теплее и потом одеваться не нужно, если спать надоест. По воскресеньям ходили в городскую баню, что была напротив кинотеатра «Севастополь». Бойкое место. Можно стрельнуть сигарету, тогда начинался табачный дефицит. Каждую сигарету курили двое-трое солдат. «Оставь покурить» в части слышалось чаще, чем «здравия желаю».
Севастопольцы охотно угощали солдат сигаретами. Нестарый мужчина, к которому обратился Куликов, долго извинялся за отсутствие сигарет. Он, хорошо понимал, что значит отказать солдату в такой малости. Просто стыдно, тем более, сам был солдатом. Куликов подумал, что настоящий человек не обидит собаку или солдата.
В бане тесновато. Спустя минут двадцать, «духов» прогоняют: «Хватит плескаться, мало еще служили». Куликов из принципа не уходил, но его и не прогоняли. Он уже вышел из разряда «духов», не ощутив на себе в полной мере «духовскую» жизнь. Физически он не испытывал угнетения. Морально тяжело переживал происходившее, не в силах что-либо изменить.
В предбаннике, натягивая сапоги, рыжий солдат вымазал руки гуталином. Озабоченно осмотрел их и тщательно вытер о занавеску. Что ее жалеть, его бы кто пожалел.
Из бани шли небольшими группами вот и КПП (контрольно-пропускной пункт) части. «Куликов! Тебя вызывает замполит Гурьев». – Крикнул через окошко дежурный по КПП сержант. – «Он у себя, в щтабе».
Куликов отдал банное полотенце Слонову, тоже попавшему служить в первую роту и повернул от КПП в штаб.
«Зачем он меня вызвал? Может быть, хлопоты Морбинчука увенчались успехом?», – думал Куликов, о чем-то дурном думать не хотелось.
Длинный штабной коридор, много дверей с табличками, там в самом конце коридора кабинет Кулыгина, там комитет комсомола части находится. Направо кабинет комбата Линевича, напротив начальник штаба Корбу. Рядом кабинет замполита части майора Гурьева.
Куликов поднял руку постучать в дверь, кисть мелко задрожала, стуча по воздуху. Куликов глядел на свою руку – даже стук в дверь определяет положение человека. Вспомнил где-то прочитанную цитату из Бакунина: «От свободы нельзя отрезать ни кусочка, ибо в этом кусочке и сосредоточивается сразу вся свобода». «От моей относительной свободы отрезали увесистый кусок. Даже стуком в дверь подсознательно хочу угодить человеку, к которому попал в зависимость. Он – командир и значит всегда прав? Нет, не дождетесь». – Куликов три раза стукнул в дверь. Звук получился «несколько наглый» с удовольствием заметил Куликов.
– Товарищ майор. Рядовой Куликов по вашему приказанию прибыл, – доложил Куликов.
– Заходи. Садись – ответил Гурьев. – Как служба?
– Все нормально.
– Жена пишет?
– Да. Недавно письмо получил.
– Конечно, нелегко ей с ребенком. Ну такова женская доля. Мужья Родине служат, а женщины детей воспитывают. Она кто по профессии?
– Филолог. В школе русский язык и литературу преподавала.
– Работает?
– Нет. Ребенок еще маленький. Девять с небольшим месяцев. Какая тут работа.
– Да, трудновато. Без бабушек, дедушек не обойтись.
Куликов промолчал, размышляя: «И куда ты клонишь, майор, домой-то все равно не отпустишь, и я все равно не расплачусь от твоего пустого и мнимого участия. Ты бы лучше замполита Сарова-Хлопотуна контролировал, может я тебе и поверил бы». Майор как будто считывал часть мыслей Куликова.
– Ничего, еще немного послужишь, поедешь в отпуск. Ты ведь парень серьезный. Грамотный. Такие в армии нужны. «Нахера, они там нужны, – матом подумал Куликов продолжая кивать в ответ на слова майора». – Я вообще считаю, – рассуждал майор, – что женатых солдат, тем более если хорошо служит, в отпуск обязательно отпускать нужно… И для других пример хороший. Сам знаешь, какой тут у нас народ. Дедовщина, землячество и другие безобразия. С этим бороться нужно. Тебя в роте не обижают? Как там обстановка? – майор пытливо посмотрел на Куликова в упор.
– Обстановка? Разная. Лично меня не обижают.
– Это хорошо. Ты там, в роте смотри, чтобы молодых не обижали. И других нарушений у нас еще много, сам знаешь. А уж мы будем принимать меры. Понял да?
Этим дебильно-армейским «понял да» майор просто помог Куликову собраться и принять решение. Он действительно понял: «Вот теперь понял. Товарищ замполит собрался записать меня в сексоты». Вслух Куликов сказал:
– Вы хотите записать меня в стукачи? Очень мило.
– Ну зачем же так. Не стучать, а помогать порядок в армии наводить. Страна нуждается в сильной армии или не так?
– Извините, но я для этой роли не гожусь, – сказал Куликов.
– А я и не заставляю, иди подумай. Если что – заходи. Понял да? – майор изобразил на лице скуку.
Гуманизм или просто покурим?
Из штаба Куликов вышел с плохим настроением. С одной стороны, он считал, что поступил правильно, с другой майор мог сделать оргвыводы. Какие именно, вот что заставляло задуматься. Он зашел в беседку покурить и обдумать ситуацию. В центре беседки стояла полная до краев мусорница, Куликов выбрал наименее засоренный окурками и плевками угол. Напротив, на скамейке, сидел Киселев. В грязных руках он держал лохматую кипарисовую ветку, его прислали подмести беседку.
«Падший ангел» при виде Киселева с веткой в руках подумал Куликов и машинально посмотрел на свои огрубевшие, мозолистые руки. Ногти в траурной окантовке вызвали воспоминание. В карантине ногти за неделю сильно отросли. Просить ножницы у сержантов Куликов не стал. Чужой опыт подсказывал – в лучшем случае пошлют подальше. В бытовой комнате он кроме здоровенного рашпиля ничего не нашел. Рашпиль он использовал в качестве пилки для ногтей.
Лицо Киселева под грязной старой шапкой, с выцветшей кокардой несколько оживилось, когда Куликов достал измятую сигарету.
– Дядя Володя, оставь покурить, – «духи», с которыми Куликов был в карантине, называли его, полушутя-полусерьезно, дядя Володя». Для остальных солдат он бал «профессор» или просто «эй, ты». На последнее Куликов не отзывался.
Куликов закурил. Медленно выпустил дым сквозь металлический узор ажурных стен беседки – дело рук одного военного строителя мастера при помощи сварки создавать практически произведения искусства.
– Как ты умудрился довести новую шапку до такого состояния? Ты бы, что ли хоть умывался. Не знаю, – посоветовал Киселеву Куликов. Киселев с появившейся в глазах осмысленностью следил за дымящейся сигаретой и отвечал:
– Я обменял свою шапку на эту, у меня работа все равно грязная мне не надо.
– Отобрали, значит? – Куликову как-то жаль было этого бедолагу Киселева, но он искренне не знал чем ему можно помочь. В беседке появился еще один солдат – парень среднего роста.
– Покурим, профессор? – спросил солдат.
– Я уже курю, вон с ним, – кивнул Куликов в сторону Киселева.
Солдат посмотрел на вновь погрузившегося в анабиоз Киселева и сказал:
– Эй, ты. Пошел вон!
Киселев быстро поднялся и что-то сказал невнятно
– Что!? – возмутился солдат, – Ты мне еще дискуссию устраиваешь. Вон отсюда! – Он подкрепил свои слова увесистой оплеухой. Потирая щеку, Киселев ушел.
– Ненавижу чмошников, только оболочка человеческая осталась, – сказал солдат, присаживаясь рядом с Куликовым.
– Он, в сущности, не виноват. Его никто не учил выживать…
– Нет, – перебил Куликова собеседник, – у него нутро гнилое. Такого учи не учи – все без толку.
– Возможно, люди разные, но ведь кто-то должен думать и о слабых. А так загнали всех в воду. Выплывет – хорошо, не сумеет – тоже. А как же гуманизм, черт бы его побрал.
– Думать о слабых? Отцы командиры пусть думают, им за это хорошую зарплату платят. А гуманизм – это кто сильный, тот и прав. Будешь сюсюкать – сомнут. Я призвался, вся часть «духи», порядка нет, беспредел. Все стали авторитет зарабатывать. Кто послабей – тому по роже. Я сначала, как ты говоришь гуманизм проявил, держался в тороне. Потом смотрю и меня сожрут. Пару тройку урюков отоварил. Выкарабкался.
В третьей роте, я сначала в третьей был, мафия, человек шесть – семь всю роту в руках держат. Я с ними кентовался. Не то чтобы они мне нравились, но самому спасаться надо. Потом вижу, они деньги трясут с чмошников, еще там дела разные. Нет, это не по мне. И я от них отошел. Как-то в туалет захожу, а там света нет, с улицы вообще темно хоть глаз коли. В ухо заехали, кто – не видел, только искры, хоть прикуривай. Ты сигарету-то дай. Совсем сгорит.
– Извини, заслушался. Интересно излагаешь. – Куликов отдал окурок. – Давай хоть познакомимся. Тебя как зовут?
– Олег.
– А меня Владимир.
– Очень сильно приятно, – хмыкнул Олег и пожал Куликову руку. – Очухался я на полу. Понятно, что работа моих друганов. Полтора зуба как не было. Внешне они со мной не ссорились. Я немного боксом занимался и до армии бывало дрался. Я им полезен был, вот меня и предупредили. А тут еще со старшиной роты повздорил…
– А зачем ты мне это все рассказываешь? – Насторожился Куликов, вспомнив предложение майора стучать.
– Ну а кому тут, – Олег показал пальцем куда-то за пределы беседки, – это можно рассказать? Ты про гуманизм спросил. Вот я и говорю про гуманизм. Старшина третьей роты, жирный прапор такой, знаешь?



