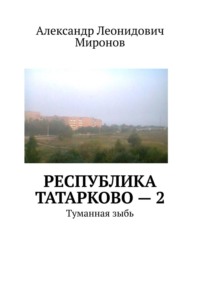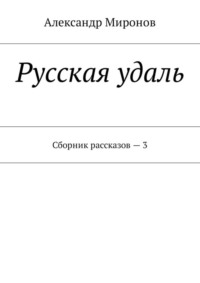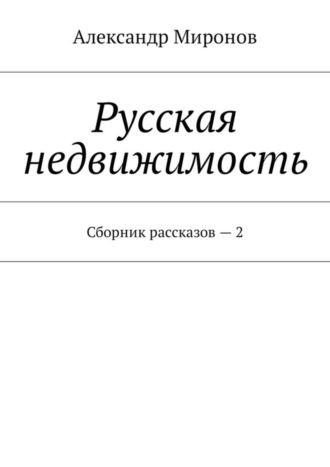
Полная версия
Русская недвижимость. Сборник рассказов – 2
Да и как им не доверять, фондам этим. Государство их благословило, лицензии им выдало, право на предпринимательскую деятельность – так, значит, что? – они с ним заодно. На благо населению вместе работают. Это не ранешное время, когда один Сбербанк был, и что хотел, то с вкладами и делал, разумеется, не в ущерб себе. От обиды на него и от безвыходности, они и вложили ту доплату в разные фонды: в «Русскую недвижимость», «Селенга» и «Ростислав». Пусть Сбербанк со своими мизерными процентами сидит себе, как паук на паутине, и ловит простаков.
Все устраивалось, как будто бы хорошо. Двести девяносто процентов – это через полгода, какой будет навар! Вот и выкрутятся…
Эх, знать бы броду, не полез в воду… Но всё новое, а вера была старая.
Василий Яковлевич горестно усмехнулся, и на глаза как будто бы стал опускаться туман. За окном становиться опять мутно, что ли? Заморгал веками – слеза. Хорошо хоть один на даче, не перед кем стыдиться за неё. Огород сейчас только и кормит их, ни работы, ни сбережений, и вклады всё погорели…
Дождь прекратился и над Залидовскими лугами, над Угрой от нагретой за продолжительный зной земли стал подниматься густой пар. Он поднимался, как предутренний туман, но не из низин, не от Угры, как обычно, наползая на возвышенность, а со всей окрестности, как с гигантской раскалённой сковороды, на которую плеснули воду. И теперь уже не дождь, а пар застилал перед взором Василия Яковлевича его Россию.
Когда услышал по радио, что представительство «Ростислава» в Калуге закрылось, а его служащие куда-то исчезли, по крайней мере, редакция радио до них не может дозвониться, Василий Яковлевич в первую минуту не поверил такому сообщению. Да и прозвучало оно как-то полусерьёзно, ёрнически, как будто сообщили нечто анекдотичное. Над вкладчиками, видно, пошутить решили. Сами же рекламу ему каждый день крутят и по несколько раз в час, и тут же сообщают о закрытии представительств. Чему верить? Что это, как не редакционный каламбур?
Да и в газетах реклама не прекращается. И по-местному и по центральному телевидению всё ещё метроном постукивает – денежки вкладчикам отсчитывает. И люди, глядя на экран, идут и идут в «Ростислав». Да и в другие фонда заманивают: краснодарским чаем вон угощают, каждую песчинку вклада всё ещё превращают в жемчужину. А некоторые и с назидательной заботой напоминает, что «будущее ваших детей в ваших руках». А «Хопер»!.. Вышла эта речушка из кисейных берегов Волгоградской области и разлилась по всей стране, не зная границ. А «Селенга»? Та и вовсе, сказывают, через российские границы перетекла. Или «Русская недвижимость»?.. Нет, уважаемые господа-товарищи редакторы, не надо. Не надо из российских людей последних дураков делать, не надо пудрить им мозги. Неприлично, непорядочно даже как-то…
А тем временем слухи расползались с нарастающей силой, и чем дальше, тем беспокойнее. И у Василия Яковлевича начало внутри тревожно подмывать и холодком сердце окатывать. И эти слухи до сих пор ещё в ушах звучат:
– А «Ростислов-то» накрылся, и наглухо…
– «Селенга» с «Хопром» накрылась…
– «Русская недвижимость» приказала долго жить…
Соседи по дому, по дачам те слухи разносили.
Василий Яковлевич недоумевал. Как такое может быть?.. А договора?.. А деньги?.. И тут же его как будто бы подъегоривал кто-то: «Плакали ваши денежки! А договор… в другом офисе теперь используй, да смотри, не оцарапайся…»
Не поверил. Поехал в Калугу. И вначале в «Селенгу», что в ДК «Строителей» на площади Победы находится. Выбрали же местечко, в насмешку что ли над вкладчиками? На позор Площади Победы…
Приходит и видит: ДК на месте (если бы что случилось, то не примерно провалился бы в тартарары!). На витражах все ещё белый листочек «Селенги» – фирменный бренд (так теперь прозывают ярлыки разных компаний).
– Вот люди! Надо же… – с облегчением вздохнул Василий Яковлевич и усмехнулся на сарафанное и электронное радио. И несколько повеселевшим стал подниматься на второй этаж.
Однако, как только предстал перед железной дверью, закрытой и опечатанной, вновь усмехнулся, но уже кое-чему другому, и едва это «другое» не выразил вслух. И отчего-то стыд какой-то подкатил, глаза от прохожих отворачивать начал. Как будто попал впросак, и люди над ним насмехаются. Мужчина по коридору прошёл, и на лице ухмылка… Может так показалось – ведь нелепейшая ситуация. Тебя, как луковицу обшелушили, и ты сам себе этим луком глаза натёр. Без боли слезятся.
Все-таки Василий Яковлевич остановил одну женщину, служащую дворца культуры, та бегала с какими-то бумагами по этажу.
– Дочка, извини, пожалуйста, скажи мне, что тут стряслось? Почему «Селенга» закрылась?
Та хоть и смотрела на него спокойно, а в уголках глаз бесенята прыгали.
– Они, папаша, сбежали.
– То ись, как сбежали?
– Сбежали, да и всё. Вместе с вашими денежками.
– И… что же теперь?
– Не знаю, – пожала молодайка подбитыми ватином прямоугольными плечиками. – Тут они по утрам каждую пятницу теперь собираются. Не то митингуют, не то хором плачут. Приезжайте к девяти часам в пятницу, может, что и узнаете.
Сбежали!.. Да как же может быть такое?.. С площади-то Победы?.. Куда же власти смотрят? Как у них под носом могло такое случиться?..
Вышел Василий Яковлевич на улицу сам не свой. Всё у него в мозгу перемешалось, в том числе и помощь сыну, и так… кое-какие радужные планы некогда роились. Лопнули мечты, и, кажись, пропали деньги. Сердце заныло, по нему как будто бы чем острым полоснули, даже дух занялся… Из последних сил съездил на троллейбусе на «стрелку» в Калуге, где постамент Карла Маркса разрезает улицу на двое и где администрации Ленинского района находится. Там рядом с ней в соседнем здании «Ростислав» располагался.
А уж до «Русской Недвижимости» сил не хватило съездить.
Как домой потом добрался, уже не помнит, как во сне.
Было это в конце января. И январь, февраль были слякотными, грязными, что омрачало жизнь ещё более.
Весь остаток зимы Василий Яковлевич посвятил хлопотам по юридическим конторам. И везде деньги, деньги, и не малые. Для кого-то, быть может, они ничего не значащие, а для него с его пенсией, да при больной и не работающей супруге – совсем разорение. Жена была ещё не на пенсии и не работала, негде, не тот возраст, да и завода того уже нет.
Вот вроде бы и законы есть, и суды на месте, а хода делу нет. Как в болоте, всё тиной затянуто и как будто бы ряска в нём ещё больше жирует.
Всё бы мог понять Василий Яковлевич, или бы постарался понять, если б он отдал свои кровные, скажем, соседу, или даже родственнику, то есть частному лицу, а тот оказался бы пройдохой. Обманул. Но здесь-то, на глазах всего мира, под строгим оком государства тебя и сотни-тысячи народа обобрали, ободрали, как липки, и ты же, оказывается, ещё и виноват, дескать, надо было смотреть, куда деньги вкладываешь. А как смотреть? Кто разъяснил? Доверяли-то не банку, а государству. Оно ведь разрешило им этот вид деятельности. Так выходит, оно что, тоже такое же лопоухое? – этого Василий Яковлевич никак не мог понять. Такого даже в дурном сне невозможно представить.
Хотя нет, видел. Вещий был сон, дурной конечно, но в руку, – как в народе говорят. Только не понял он тогда его. «Не понял!..» – с болью простонал Василий Яковлевич. И хоть неудобно о нём вспоминать, но он до сегодняшнего дня его до мелочей помнит, и иной раз и взаправду при ходьбе ноги, как той ночью во сне, повыше поднимает, из опаски, как бы в такое же нечто неприличное не вляпаться. И видел тот сон незадолго до крушения финансовых пирамид.
Снилось ему, что как будто бы он находится в каком-то большом городе, и даже не в городе, а как будто бы – в огромном населённом пункте размером во всю страну. По крайней мере, сонные ассоциации таковыми были. И вот он, Василий Яковлевич, ходит по этому городу из края в край и не находит более-менее приличного места для туалета. А ему, в том сне, ой как в него приспичило. Прямо невтерпёж. А сходить не куда. Эта огромная территория была вся в дерме, и народ бродит по нему, не зная куда ступить, чтобы не испачкаться. И он, то в один туалет забежит – там по щиколотку, то в другой – и там не меньше. Уже и на улицах ступать стало не куда. Люди маются, места себе не находят, бродят по тому дерьму, а у него уже полные потроха, руками живот придерживает… Проснулся, и с испугу мац-мац рукой под одеялом – чисто! Вздохнул с облегчением и побежал в туалет. А потом долго гадал, к чему бы это?..
И точно! Через месяц не только он, миллионы в нём оказались – не в дерме конечно, а в хорошей «шопе» – это на иностранный манер.
В суде, куда подавал на пирамиды заявления, у судьи осторожно спросил:
– Толк-то будет?..
Судья дёрнул плечом и на его утомлённом лице вздрогнул уголок губ, что, скорее всего, выражало сочувствие, и Василий Яковлевич упал духом. Тоскливое чувство безвыходности охватило его, словно он вновь ступил в то самое, где находился в ту ночь. Вот и верь или не верь теперь в сновидения.
И как он тогда не сообразил, к чему сон? Бежать надо было пока не поздно в эти банки-лохотроны, снимать деньги…
Возвращался Василий Яковлевич с судов домой в полном упадке психических сил. Хуже нет ждать неизвестно чего: то ли милости, вдруг ниспосланной государством, праведного суда, не то – окончательного разорения. Но не столько даже деньги жалко было, хотя конечно в них дело, больше болела душа из-за сына. Что с ним будет? Как теперь он выкручиваться будет? Дачу продать, ведь больше-то ничего нет. А без неё – у них у самих жизнь короткой окажется. Хотя, кто сейчас дачу купит, кому она нужна в обезлюдевшем посёлке, в обнищавшем?
Уже и дети писали, успокаивали; мол, коли, не были богаты, так хрен собираться… (Мать им отписала о его переживаниях.) И просили не убиваться… А у Василия Яковлевича от их сердечного сочувствия на душе становилось ещё горше. Хорошо, что дачные дела начались, они понемногу отвлекали от переживаний.
Огород поначалу радовал: отсадились вовремя, дружно
зацвели сады, вишни, яблони, грушка-малышка. Природа словно бы вопреки превратностям мирским, цвела и благоухала. С весны установилась жаркая погода, и до того, что начали уже беспокоиться – не иссушила бы посадки. Уже и поливать нечем, в колодце вода уходит.
Но произошло другое. На яркие цветы и нежные завязи вначале упал морозец. Подчернявил завязи. А теперь среди лета – град. Как говорят: до кучи!
Василий Яковлевич смотрел на безобразия, какое натворили сейчас природные явления, и с грустью приговаривал:
– Вот так вот вас, вот так вот… Чтоб не раскатывали губы. По сопатке, по мурлам. Спереди и сзади. С той и с этой стороны. Чтоб и дух из тебя вон!
Он смотрел на пар, нависший туманом над Залидовскими лугами, над его Россией. И смаргивал едкий туман, теперь часто набегающий на глаза, смахивал его ребром ладони. И не видел ничего радостного впереди: ни для себя и ни для своих детей, ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем.
…Уж не один год прошёл, не одно лето, а деньги так и не вернули. Даже в суды не вызывали. Владельцы пирамид, оказывается, обанкротились, а государство, которое им давало добро на их деятельность – не-при-чём! И круг замкнулся. Умыли руки одни и фигу показали другие. И Василий Яковлевич, вспоминая те банки, рухнувшие пирамиды, всякий раз с сарказмом усмехался: хорошо сработали! – молодцы ребятки. Кое-какие гроши вкладчикам Сбербанка государство обещает вернуть. А таким обманутым вкладчикам, как он, Василий Яковлевич, и иже с ним, вежливый отлуп. И круг замкнулся. Теперь и надеться не на что и не на кого. Ни работы, ни зарплаты – кругом обман…
Эх, Рассея, Рассеюшка, в чём твоё будущее?.. Всё в тумане.
1995г.
Русская недвижимость
На этот раз его все же уволили. Сократили как недвижимость. Да и какой с него был прок? Лежал, скулил, страдал, как старый пёс на пепелище родного дома, то есть завода. Последнее время из сторожки носа не показывал. Недвижимость в недвижимости.
– Давно надо было, – сказал он на это увольнение и почувствовал облегчение. – К чёрту! – И не пожалел, что потерял зарплату.
То, что Аристархович поддавал, знали все, но мирились. Лишь бы службу нёс. А больше – потому ещё, что не больно-то на такую зарплату находилось охотников (сторожей), да и то деньги не всегда выплачиваются вовремя, с большими задержками. Так что мирились: они (администрация) – с ним, он – с ними, как мог.
На механическом заводе Аристархович отработал больше двадцати лет, с самого его основания в должности главного механика. Всё, что закладывалось тогда на этой строительной площадке, не проходило мимо его рук, глаз, мозгов, и оттого знал он его, как свои пять пальцев. Может, и лучше, потому как на пальцах ранки зарубцовываются и забываются, но то, что приходилось строить, монтировать, пускать в действие, в процесс; на чём набивал шишки, зарабатывал выговора, изредка – поощрения, что порой не давало покоя ни днём, ни ночью, – всё это в памяти оставляет след глубже и надолго.
И когда-то этот труд приносил удовлетворение, даже – гордость. Вот взять хотя бы тот профиль, который при монтаже поднимали кран балкой, груз, втрое превышающий нормативы. Сам взял на себя ответственность, и развернули. А станки с ЧПУ как устанавливали? С такой точностью, какую в аптеке, наверное, не всегда выдерживают. А термичка?.. А литейка?.. А мехмастерские?.. Шутка ли – завод из четырёх корпусов под одной огромадной крышей…
И-эх! – плеснуть что ли, чтоб горе не завилось верёвочкой.
Аристархович, когда завод встал, сам слёг в больницу. В одно время с заводом у него сердце сбилось с ритма. И того гляди, тоже остановится. Нет, только инфаркт случился. Выкарабкался. Врачи рекомендовали отлежаться и отсидеться дома. А тут и пенсия подошла. Пять лет на завод носа не показывал, хотя знал, что там творится – по рассказам. Переживал. Но одно дело, когда переживаешь со стороны, другое – когда своими глазами видишь. И им, своим зрячим пока ещё, не хочется верить. Такую Перестройку он и в пьяном сне не мог себе представить. Какого рожна согласился? И не пьян ведь был.
Когда в первую свою смену вошёл на территорию завода, почувствовал, что колени слабеют. А глаза, словно паром затуманились, будто титан с горячей водой в нём самом вскипел. Идти не мог. Вернулся после обхода в сторожку, упал на топчан и часа два отходил, или, наоборот, приходил в себя. После кипятка в холод бросило среди лета.
Э-эх, давай по маленькой, чтоб сердце не болело, и градус поднялся…
Как-то пришёл начальник, тоже горе луковое. Раньше был бригадиром в одном из цехов завода. Теперь не поймёшь кто: то ли старший сторож, то ли директор этого саркофага, что одиноко стоит из стекла и бетона?
– Пошли, – говорит, – Аристархович со мной. Поможешь. Опять злоумышленники на заводе проникли. Заложили ворота изнутри, один открыть не могу.
Пошли. С полчаса открывали. Наконец, вошли внутрь. И он за сердце схватился. Ох, Бог ты мой! Да змеюка ты ж, подколодная! Да чтоб тебе ни дна, ни покрышки! Да ты, куда меня завёл?.. Совсем доконать взялся! Да на такое смотреть без сердечной боли невозможно. Ой-ей-ёй…
Станки, которые он вместе со своей механической службой здесь монтировал, стояли на прежнем месте. И токарные, и сверлильные, и шлифовальные, и горизонтальные, и с ЧПУ. Ну, вот как будто бы завод только что приостановили, как будто рабочий народ на первомайскую демонстрацию выдернули. Вот сейчас вернутся, и оживут, закрутятся цеха. Литейка зашипит, кузнечный зашлёпает, штамповочный… Да только бред всё это, мираж.
Ни в одном из станков и механизмов нет живых органов, всё повыдрано, вся сердцевина – электрические сборки, пульты управления, панели. А кабелей электрических, этих кровеносных сосудов, – потому они и красные, медные, – ни у одного станка нет! Всё онемело. Весь завод!
Аристархович вернулся в сторожку, лёг на топчан из-за слабости в отдельных частях своего тела и сказал:
– Всё! Отлежусь, и пойду увольняться. Плесни, не то всё – вытянешь меня отсюда за ноги. А тот, горе луковое, – то ли бригадир, то ли директор над всей этой недвижимостью, – бил себя едва ли не пяткой в грудь и обещал не отравлять ему жизни. Потом плакали, подвыпивши.
Но уговорили остаться, не увольняться. Хоть и выпившим он был, но на такое нарушение караульной службы никто как будто бы не обратил внимания. Может быть, из сочувствия.
После продемонстрированной ему сказки русской недвижимости, Аристархович обозлился. И обозлился на всех. Все – это и местные руководители, администрация ОАО, и деятели разных уровней. Особенно на тех, кто не смог как следует организовать консервацию его механического завода. И он, если вдруг встречал кого-то из господ-товарищей на территории завода, вначале долго смотрел им в глаза, а потом говорил всё, что он думает по этому поводу.
– Все вы, – говорил он, – такие же проволочники, как и те, кто такую разруху допустил по всей России-матушке! Такие же! И не смей со мной спорить! У всех у вас руки красные! Посмотри на них. Думаешь, смоешь? Не-ет, эта ржавчина – вот куда тебе въелась. В это самое место… Погодите, ещё ночами вскакивать будите. Я похлопочу… враги народа.
И если даже ему пытались втолковать, что, дескать, нет денег, и не было, чтобы нанять для охраны завода ОМОН, или вневедомственную охрану, он всё равно говорил:
– Вре-ди-те-ли! – чётко и с расстановками. – Вы даже окна первых этажей не зарешётили, не обварили. Что мне теперь, каждое окно задницей загораживать?..
И однажды двух проволочников сняли прямо с окна. Как раз так совпало: он делал обход территории, а с поста милицейского мильтоны шли к нему на завод с проверкой. Они не занимались охраной объектов, они сидели на КПП на дороге и время от времени совершали обходы, для моральной поддержки сторожам, что, в принципе, столь же было необходимо, как всей этой недвижимости сторож Аристархович. Однако, если бы не они, то этих злоумышленников он, конечно же, не поймал бы. Спугнул бы (если бы они ещё испугались?), может быть, поматюгал бы. А чтоб он мог с ними ещё поделать, без рации и без нагана? Шёл с палочкой, с тросточкой, которая давно уже приросла к руке после перелома ноги, да и по возрастной необходимости. Больно бы таким оружием напугал?
Милиция, оказывается, раньше него воришек засекла. Ждали в кустах, когда те из окна наружу вывалятся. Тут их и повязали с поличным, с мотками проводов. Пользуясь случаем, – били, пинали и фамилии не спрашивали. Даже жалко стало. А когда в его сторожку тех злоумышленников привели избитых и измятых, и вовсе слеза прошибла. Бомжи в чистом виде. Тот, что постарше, как помнится, у них когда-то работал слесарем по сантехническому оборудованию. Теперь безработный, разведённый, из дому изгнанный. Не бреется, бороду отпустил, говорит, так удобно. Когда по морде бьют, не так больно. И молодой, племяш его. Инвалид третий группы, по психоневрологии как будто. Мильтонам даже неловко сделалось – больного отоварили. Ну, в таких случаях на лбу пиши, что ты псих или хронический дистрофик от постоянного недоедания.
И вот это-то как раз Аристарховича и доконало совсем. С одной стороны, был зол на всех, кто причастен явно или косвенно к разграблению завода, а с другой – увидев этих уродов, пожалел их и уже без злости. Ах, ты ж, Боже мой! Не знаешь, что лучше: то ли завод спасать от полнейшего его разграбления, то ли, наоборот, отдать его этим бомжам? Хоть пожрут один раз вволю.
Да и с милицией что-то не совсем ладное происходит. Два часа из отделения не могли за задержанными приехать. То ли бензина нет, то ли совести. Потом все-таки приехали. А через полчаса выпустили. На кой хрен им лишние рты? Кормить нечем. И этих же самых, только уже в другую смену, опять на заводе поймали. И опять били. Видимо, пока завод в полные развалины не превратиться, до тех пор для них и им подобным он будет тем магнитом, который манит и притягивает к себе, как волков к отаре.
И всё. Понял Аристархович, что ни с какой стороны никому ничего не надо. Ни хозяевам, – хотя какие это хозяева? – дебилы! – как любит генеральный (кстати, молодой) директор всех называть, кроме, конечно, себя любимого; ни правоохранительным органам; ни вообще, государству в целом. Ни-ко-му! И от навалившейся тоски, обиды и злости, от безвыходности, Аристархович совсем скатился со стапелей. Да ладно бы только это, он ведь ещё и лается. Рычит, как старый пёс на родном пепелище.
Последнюю смену проверяющий (которые отродясь по ночам на заводе не заглядывали!) написал на него рапорт. И хоть зарплата на столь ответственной работе маленькая, а порядок всё равно быть должóн!
– Ты ж не где-нибудь, – усовещал его проверяющий. – Ты ж на производстве.
– Я? Ха! – рассмеялся Аристархович. – Ты это называешь производством? Да ты различие-то хоть какое-нибудь имеешь между производством и недвижимостью? Между тем, что было, и что вы натворили? – жучок ты красномедный! Разуй глаза, очки протри! У меня уже нет сил смотреть на такое производство. Нет, ты меня слышишь, о чём я говорю?.. Я на это производство уже смотреть не могу трезвыми глазами.
Проверяющий уже был не рад своей миссии. Смотрел на сторожа, подслеповато моргая и протирая очки.
– Плесни, – поставил он кружку перед проверяющим, – иначе помру! Будешь за свой счёт хоронить.
Проверяющий растерянный, с оглядкой, ушёл с завода.
И, действительно, стали побаиваться. Вдруг и вправду человек умрёт однажды на заводе. За чей счёт хоронить?
Уволили.
1995г.
Месть Ретрограда
Василий Иванович Градов, или по чьёму-то едкому языку, Ретроград, пришёл на дежурство. На охрану особо важного, стратегического объекта местного значения, усиленного бравой охраной: Лёхой, Гохой, Сахой и им, Ретроградом, – завода «Извести», новенького, ещё даже не успевшего пройти пусковой режим.
Не заходя в дежурку, Василий Иванович сделал обход объекта. Обошёл вокруг компрессорной, нагнетательной – двери и окна на них были вроде бы целы. Никто их за ночь не побил, не вскрыл. Направился к административно-бытовому корпусу – АБКа, состоящего из трёх этажей.
Фонарь и прожектор на АБКа не горели.
«Опять выключил!» – с раздражением подумал он о сменщике, понимая тайный смысл этой светомаскировки.
Рассвет едва занимался, но от снега и от яркой люминесцентной лампы на вышке над центральным складом, доходившего и сюда на территорию завода, во дворе было более-менее видно.
Градов посмотрел вдоль двух зданий, образующий коридор между основным корпусом цеха и АБКа. Там, за воздушным переходом, соединяющим эти здания, на пустыре, на котором снег почему-то не слёживался, его выметало, курился чёрный бугорок.
Он подошёл к нему, в нос ударил запах горелой резины, плёнки, мазута, словом – химией. Ладный запашок. Василий Иванович сплюнул.
– Вот, дают, черти!
Василий Иванович поднял из-под ног металлический прут, согнутый крючком и пошуровал им кострище, из него воспалённо замелькали угольки. Но в пепле ничего не было.
– Управились. Жгут ночью, без света, чтобы не видно было дыма. Одну ночь ковыряют, другую обжигают, на третий день сдают и поддают. Всё по графику, технология…
Градов бросил клюку и пошёл к АБКа. Пока шёл к двери, дважды чертыхнулся и сплюнул слащавый привкус, словно прилипший к нёбу у кучи. Выругался:
– Шпана красномедная!..
Окна во всех трёх этажах были тёмные, от них отражались блики прожектора от склада. И лишь в одном окне на первом этаже горел свет – в дежурке. Само окно было закрыто серой, толстой бумагой, с вырезанным в ней квадратиком, окошечком – для неусыпного бдения охранному подразделению. Сквозь него два пристальных ока осматривают подведомственную территорию и днём и ночью, если, конечно, не завешены сонливой поволокой.
И в самом корпусе, в коридоре первого этажа, запах был не лучше, чем у кострища, только здесь желательно было под него чем-нибудь закусить. Или хотя бы занюхать. Войдя с улицы в коридор АБК, в нос Василию Ивановичу ударил крутой, перенасыщенный водочно-табачный чад. Вернее, сивушно-табачный. Градов брезгливо дёрнул носом.
Обычно вторую ночь Лёха, Гоха, Саха – проволочники, – как ехидно прозвал их Василий Иванович, как вредоносных жучков, – гудели. Устраивали попойку, как бы в ознаменовании трудов праведных. Проходило она до отвратительного изящно, до мочевой слабости.
Градов потянул за ручку дверь комнаты сторожа, и та отворилась со скрябом нижнего края о пол. Такой звук должен бы подкинуть охрану с нагретого места, как пружиной. Однако в помещении никто не шелохнулся. Храпели, не вздрогнув.
Леха, сторож, которого Градов должен был сменить, как и положено ночному директору, как хозяину, лежал на широкой лавке навзничь, на своей куртке, заложив чёрные от мазута и гари ладони под голову. Тёмно-русые волосы его были под цвет ветоши, которой обтирали паровоз.