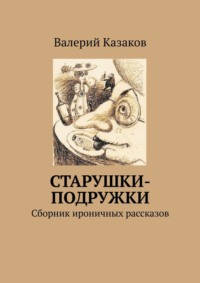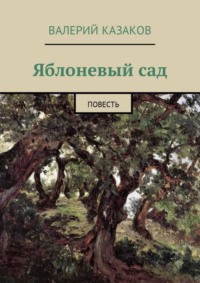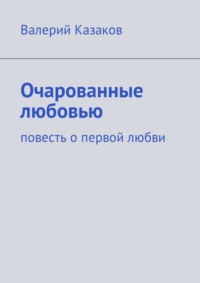Полная версия
Город в лесу. Роман-эссе
И отчасти, им это удалось. Старожилы ещё сейчас помнят, что первое поколение горожан говорило каким-то странным, сугубо деревенским языком, и обсуждали эти люди большей частью садово-огородные проблемы. Одевались они примерно так же, как принято одеваться для тяжелой работы на дачном участке. Питались тем, что произведут в домашнем хозяйстве, а в магазинах старались покупать только соль, сахар да спички. То есть то, без чего никак невозможно обойтись.
Но постепенно оторванность от сельского уклада дала свои плоды. В магазинах стало больше продаваться картофеля и свеклы, моркови и капусты. А среди горожан появились настоящие интеллигенты-созерцатели, у которых возникли свои умозрительные ценности, в соответствии с которыми и следовало строить жизнь. Не работать на земле, не добиваться больших урожаев, а осмысливать происходящее с неких отстраненных философских высот. С тех позиций, откуда всё приземленное кажется мелким и проходящим.
Где-то в середине шестидесятых в новом городке стали появляться люди экзотических для здешних мест профессий.
Первым, как это ни странно, появился в Осиновке архитектор, и хотя по его проектам в маленьком городке почти ничего не строилось, он каждый день исправно приходил на работу в здание местной администрации, подписывал там какие-то серьёзные бумаги и даже получал за это приличные деньги.
Между тем жилые дома в Осиновке напоминали массивные серые коробки, дороги изобиловали крутыми поворотами и глубокими ямами, а среди деревьев в парковой зоне преобладали довольно корявые и низкорослые американские клены. Ветхие строения долго не сносились, а за высокими заборами ничего не произрастало, кроме огромных лопухов и грозной темно-зеленой крапивы, которая могла напугать одним своим видом.
Вслед за архитектором в провинциальном городке появился скульптор Максим Владимирович Козловский, внешне очень похожий на истинного социал-демократа времен Плеханова и Кропоткина.
Максим Владимирович был одет в серое клетчатое пальто, коричневатую фетровую шляпу с атласной лентой и всегда носил при себе большой желтоватый портфель с карандашными рисунками, где преобладали голые женщины в соблазнительных позах. Он считал себя космополитом, к водке относился с пренебрежением и говорил, что русский человек никогда не поймет великую западную культуру.
Появление скульптора многих озадачило. Практичные жители Осиновки почему-то считали, что уж скульптору-то в их городе делать явно нечего. Ну, о каких статуях может идти речь, если даже красивые мраморные надгробья семьи Бушуевых на кладбище местные жители не уберегли.
И все же скульптор прижился. Естественно, в первую очередь он изваял бюст товарища Гвоздовского, который с особой торжественностью был установлен на центральной площади городка возле хлебного магазина. Затем, как водится, пришла очередь для памятника Ленину. Но этот памятник, по общему мнению, получился не самым удачным, потому что в нем не чувствовалось экспрессии. Не чувствовалось устремленности в будущее. Протянутая вперед рука – была. Была даже кепка, зажатая в крепком Ленинском кулаке, а подлинного движения души, подлинного порыва к светлому будущему не ощущалось.
После этой неудачи о скульпторе на какое-то время забыли. Потом кто-то из районных начальников вспомнил о нем и заказал статую колхозницы, которую вскоре в торжественной обстановке установили возле правления колхоза «Путь Ильича».
Если честно признаться, эта скульптура выглядела довольно нелепо и чем-то напоминала снежную бабу в обнимку с березовым веником, зато идейная трактовка этого образа была признана безупречной. Особенно если судить о данном образе по ширине плеч, а так же по массивной надежности рук и ног.
Немного позднее точно такая же статуя появилась перед зданием суда, возле крыльца местной школы и в больничном парке…
Последним творением скульптора стала обыкновенная обнаженная женщина, чем-то очень похожая на его жену Веру Ивановну. Эту скульптуру, он водрузил на постамент у себя в саду и первое время с удовольствием ей любовался. Она была для него тем проявлением свободы творчества, которого он много лет был лишен в официальной среде. Она раскрепостила его дар и позволила выплеснуться наружу самым сокровенным его чувствам.
До этого случая скульптора как бы не замечали, потому что его творения шагали в ногу со временем, соответствовали требованиям эпохи и общепринятым нормам. А новая скульптура неожиданно выпала из общего ряда, и это вызвало странный переполох в тихом омуте городка. К тому же родственники Веры Ивановны восприняли новую скульптуру как оскорбление. Они не могли понять, для чего этот человек выставил на всеобщее обозрение все интимные прелести их родной сестры.
На одном из общих праздников братья Веры Ивановны выпили лишнего, затеяли разбирательство и, не найдя веских аргументов, сильно поколотили бедного ваятеля, после чего его голову надолго покинули все прежние устремления и новые далеко идущие творческие замыслы.
Богема
Вслед за скульптором в Осиновку приехал художник Павел Петрович Уткин. Это был человек небольшого роста, который со стороны мог показаться немолодым и нестарым. Что называется – серединка на половинке. Зимой и летом он ходил по городу в длинном сером плаще, в тёмном берете с хвостиком и желтых ботинках фирмы «саламандра». У него было лицо кочегара, сухая красноватая кожа на щеках, крупный нос и маленькие быстрые глазки, спрятанные в тени густых бровей. Обычно он говорил ровным приятным голосом, взвешивая каждое слово и пробуя его на вкус. Он никогда никуда не торопился и не любил, когда спешат другие. И хотя Павел Петрович не всегда выглядел свежо, его крепости и хладнокровию можно было позавидовать. Во всем его облике угадывался будущий долгожитель, человек без возраста, способный сделать красивой даже неумолимо приближающуюся старость.
В свободное от творчества время Павел Петрович любил посидеть с компанией единомышленников в каком-нибудь неприметном кафе, выпить пивка и поговорить на отвлеченную философскую тему. К нему потянулась местная интеллигенция: учителя, журналисты, врачи. Пришел даже скульптор, кое-как оклемавшийся после неожиданного инсульта. Он был сейчас с отвисшей нижней губой, необычно тёмными, какими-то испуганными глазами и дрожащей правой рукой…
Вслед за художником, неизвестно откуда, в новом культурном обществе появился поэт. Поэт был высок, худ и подозрительно подвижен. В его чертах сквозила неврастения. Было видно, что не сегодня так завра он создаст гениальное стихотворение, сделает умопомрачительную глупость, или (чего доброго) зарежет кого-нибудь.
Следом за поэтом в Осиновке появился писатель Илья Ильич Перехватов, расхаживающий всюду в черном свитере и кирзовых сапогах. Поговаривали, что он считает себя последователем Максима Горького, называет свою прозу босяцкой и гордится том, что не знает таблицы умножения, потому что математика чужда ему, точно так же как чужды все точные науки.
Так в Осиновке появилась богема. То есть – тонкий слой настоящих интеллигентов, чем-то похожий на тонкий слой плесени, возникающей неизвестно откуда, но избавиться от которой совершенно не возможно.
Как водится, первое время представители богемы стали собираться у Павла Петровича Уткина на кухне и говорить о захватывающем литературном процессе в новой России, о политических переменах в стране, которые давно назрели. Наслаждались свободным общением и старались удивить друг друга глубокими познаниями в разных областях современного искусства. Но вскоре выдохлись и для поддержания бодрости на должном уровне, для энтузиазма в пламенных речах, стали понемногу выпивать водочки или вина, в зависимости от настроения. Потом заинтересованные разговоры без спиртного стали редкостью, своего рода прецедентом, а чтение стихов на трезвую голову вообще стало вызывать недоумение.
В общем, постепенно получилось так, что представители богемы начали обсуждать между собой только политические темы, отдавая предпочтение грубому прагматизму, да ругать свою беспросветную жизнь, в которой отчетливо просматривался путь к вульгарному гедонизму.
Зато творческих замыслов у каждого представителя богемы было сейчас хоть отбавляй. Они мечтали о том, что хорошо бы возвести в Осиновке огромный спортивный дворец или открыть ночной ресторан с большим танцевальным залом. Чтобы можно было в этом зале читать стихи, пить водку и веселиться, танцевать, пить водку, веселиться и снова читать стихи.
– Или создать небольшое издательство для местных авторов, – продолжил однажды, долго молчавший писатель.
– Или собрать материалы по истории края, – дополнил его поэт. – Мой дед, например, был первым священником в здешних местах. И знаменитый поэт Павел Васильевич Заболотный у нас в селе останавливался на ночлег у бабки Аграфены.
– Можно бы и картинную галерею открыть, – поделился своей заветной мечтой художник Павел Петрович Уткин. – Детишки ходили бы туда на Левитана любоваться. Левитан скупую русскую природу чувствовал душой. Или Саврасова взять. Тоже, говорят, выпивать-то мог порядочно, но талант, как видите, не пропил.
В общем, через некоторое время люди богемы о новых направлениях в искусстве уже почти не вспоминали, и когда в их городок неожиданно приехал хор лилипутов во главе с профессиональным режиссером Сарой Комисаровой, то этот приезд был воспринят ими, как очень большое культурное событие.
Так получилось, что очень скоро самым ценным качеством в человеке представители богемы стали считать простоту, а самым главным условием разговора – доходчивость. Этим умело воспользовался отставной полковник Викентий Федорович Матов, разгуливающий по Осиновке в изрядно поношенном френче и новых хромовых сапогах. Полковник стал появляться в культурной среде богемы все чаще и все настойчивее просил написать о нем настоящий роман, потому что он участник гражданской войны и герой Великой Отечественной.
Первым с полковником поссорился писатель Илья Ильич Перехватов. Ему не понравилось, что советский полковник говорит о войне, как о веселом приключении, а о женщинах, как о лошадях, отличающихся большой выносливостью и силой. Это показалось писателю несправедливым. Гражданская война унесла миллионы человеческих жизней и воспринималась им, как большая трагедия для всей многострадальной России. Полковник же видел в войне отдушину от дел мирских, а в женщинах – объект услады и все перечислял свои подвиги, суть которых – чужая смерть.
– Мы строили новую жизнь! Мы боролись за права трудящихся! И эти права получили, – непривычно громко кричал полковник. – Мы заслужили место на скрижалях!
– И где же они эти ваши права? – однажды спросил у него писатель.
– У наших детей, у наших внуков! – продолжил кричать полковник. – Им теперь принадлежат заводы и фабрики! Земля и недра! Они хозяева своей судьбы! Хозяева страны!
– И что они могут? – с прежней иронией продолжил писатель.
– Все! Всё, что захотят! Потому что у нас хлеб самый дешевый в мире! Бесплатная медицина! Всеобщее среднее образование! Чего ещё надо для счастливой жизни? Что ещё нужно!?
– Но при этом говорить и писать правду нельзя, – постарался урезонить полковника Илья Ильич.
– Ну и что? – возмутился полковник.
– Да какая же это свобода, если нельзя свои мысли изложить на бумаге так, как хочется.
– А я никогда и не стремился к этому! Для чего мне всё это?
– Зато другим свобода слова необходима как воздух.
– Вот, вот! – снова закричал полковник. – Вот, вот! Особенно тем, кто только эти самые слова и производит! Как вы! Для вас, конечно, свобода слова – самое главное… Она для вас важнее всего на свете. Только при чем здесь мы – нормальные люди!? Думаете, мы за вашу свободу на баррикады пойдем? Не дождетесь! Да вам только эту самую свободу дай, – вы все наши подвиги охаете, все святыни заплюете, все наши авторитеты смешаете с грязью! Вам бы только выделиться. Перед другими острым словом блеснуть! Для этого вы ничего не пожалеете. Никого не пощадите! А до народа вам дела нет! Вам и свобода-то нужна до поры до времени. Пока не накричались вдоволь. А потом-то уж вы народу пикнуть не дадите о своих правах. И тогда обернется ваша свобода всенародным бесправием! Бедствием обернется. Ведь так?
– Нет, не так. Настоящая свобода – это как хлеб для усталого путника, это как свет в ночи, как вода для погибающего растения, – закончил свою мысль Илья Ильич.
Потом с полковником поссорился поэт. Надо сказать честно, поэт был человек сумасбродный и ссору любил. Она позволяла ему говорить гадости, невзирая на авторитеты. К тому же оригинальностью мысли он не блистал, чуть-чуть до неё не дотягивал. Поэтому нарочитая резкость придавала его словам долю своеобразия, наделяла его самого неким трагическим шармом. А так как в душе он был обыкновенным бабником – особым пристрастием для него была сексуальная тема. Тема непреодолимых борений перед всепоглощающим соблазном, где чувства телесные и духовные переплетены, где тайна может и порочна, зато дает начало новой жизни.
Поэт Николай Николаевич Гусев был удручающе бледен, имел сильно вытянутое лицо, длинный нос и большие женственные губы. Короткие русые волосы он зачесывал назад, всегда носил с собой старые карманные часы фирмы «Густав Жако» и, когда требовалось узнать, сколько времени, как-то очень картинно доставал их из нагрудного кармана, потянув за серебряную цепочку.
В минуты спокойствия выражение его лица было подчеркнуто меланхоличным. Трудно было понять, что в нем: прискорбное недоумение, вселенское всеведенье или обыкновенная досада. Когда же в компании друзей вдруг затевался спор, Николай Николаевич мгновенно преображался. От волнения он сильно бледнел, зрачки его и без того тёмных глаз расширялись до странных размеров, руки сами собой начинали жестикулировать, и он впадал в припадок романтичности, пытаясь доказать присутствующим, что выше любви нет ничего на свете.
Полковник поэта не понимал и немного побаивался. Осторожно и брезгливо отстранялся его. Всякий раз с внутренней дрожью предполагая, что этот идиот, чего доброго, когда-нибудь вызовет его на дуэль. Или убьет злобным зарядом витиеватого сарказма.
Черные глаза поэта, похожие на перезрелые сливы, полковника сильно раздражали, а беспредметная речь могла довести до белого каления. Полковник никогда не строил жизнь на голом чувстве, и поэтому искал в чужом высказывании некий трезвый расчет, запрятанный в футляр напускного словоблудия. Но в словах поэта он смысла не находил.
Моисей Сахалинский
Однажды до Осиновки дошла молва, что в ближайшее время город может посетить странствующий писатель Моисей Мамонтов-Сахалинский, собирающий материалы для новой субъективной эпопеи под названием «Наша горькая жизнь».
Весть об этом событии взбудоражила умы творческих людей провинциального городка. Илья Ильич Перехватов позвонил Николаю Гусеву и предложил (чтобы не ударить лицом в грязь) встретить странствующего писателя на вокзале хлебом-солью.
Это предложение было воспринято с пониманием и поддержкой. После чего Илья Ильич заказал большой ржаной каравай в местной пекарне, купил красивую деревянную солонку и полотенце с русским орнаментом. Потом принес из чулана лучший костюм в серую полоску, тщательно прогладил его и повесил на плечики. Стал сочинять приветственную речь, в которой попытался найти нужное сочетание между космополитизмом в искусстве и тягой к принципам постмодернизма. Отразить реальные проблемы порочного мира социализма и рационализм рыночной экономики. В общем, Илье Ильичу очень захотелось блеснуть эрудицией перед странствующей знаменитостью. Показать, что они тут тоже не лыком шиты.
Николай Николаевич в свою очередь сел писать стихи, посвященные легендарной личности. Просидел над стихами до вечера, испортил много бумаги, потерял массу времени, но стихи у него вышли какими-то излишне льстивыми и напыщенными.
Павел Петрович Уткин, узнав о предполагаемом визите странствующего писателя, очень разволновался и стал отказываться от предстоящей встречи. Уверял, что он такой чести не достоин, он ничего великого не совершил. Ему похвастаться нечем.
Павлу Петровичу казалось, что человек с таким непривычным и звучным псевдонимом должен обладать очень весомым талантом. Недаром его рукописные книги уже много лет передаются в России из рук в руки, а удачные словесные обороты – из уст в уста. Моисей Сахалинский давал своим рукописным книгам звучные названия. Одна из его книг называлась «За ложью – ложь», другая – «Откровения красного рыцаря», третья – «Смердящее время перемен». Это были романы – эссе, романы – хроники и даже романы – сценарии. Произведения Моисея Сахалинского изобиловали ёмкими метафорами, глубокими философскими отступлениями и имели в подтексте такие залежи смыслов, что голова шла кругом. Настолько ловко там всё было переплетено и связано мелкими деталями с реальной жизнью.
Илья Ильич как зеницу ока берег одну цитату из его рукописи, которая начиналась такими словами: «О, русские люди! Где сила вашего духа? Руины вашего времени расколола историческая ложь. Трещина непонимания пролегла между вами. Блистательная роща вашей юности постепенно превратилась в свалку металлолома, в горы ненужного хлама… И в этом виновны мы сами. Ямы и провалы зияют в багровой земле наших предков, а мы терпеливо ждем перемен. Мы всё ещё на что-то надеемся! Мы не можем восстать против несправедливости! Мы не видим сути этих провалов, не знаем о существовании этих ям. Так я открою вам глаза! Только слушайте меня, только смотрите вокруг неравнодушными глазами. И вы узрите, и вы поймете, и обретете вы… И бесценно будет обретение ваше. Ибо только страдание открывает глаза истине. Только божественная правда может избавить от духовного страдания в пустыне заблуждений»…
Когда Илья Ильич перечитывал эти строки – у него по спине пробегами мурашки. Побеседовать с таким человеком – это счастье. Тем более что этот человек коллега. Он тоже писатель.
Где-то глубоко в душе Илья Ильич ощущал тот же критический настрой, которым обладал Мамонтов-Сахалинский. Ему тоже хотелось написать нечто похожее на «Откровение красного рыцаря». Только не хватало вдохновения, не хватало духу подступиться к такой громадине…
Но ожидания местной богемы оказались напрасными. Как раз в это время где-то в Малмыжском районе объявился дальний родственник марийского князя Болтуша, погибшего при сражении войск Ивана Грозного с марийским ополчением. Этот человек стал рассказывать о давнем сражении какую-то очень занимательную легенду, изобилующую мелкими деталями и упоминаниями о неизвестных миру марийских героях. Моисей ничего не знал об этом сражении, но ему очень хотелось упомянуть о нем в своем новом труде. Это сражение укладывалось те рамки исторического процесса, которые ему наиболее импонировали. Поэтому Моисей поспешил на встречу с дальним родственником марийского князя, круто изменив траекторию продвижения по вятской земле…
Потом пришла нехорошая весть из Красновятска. Представители богемы узнали, что странствующего писателя видели там в пьяном виде. На одной из темных улиц он о чем-то громко спорил с местным краеведом Иваном Ухиным, и в этом споре приводил веские аргументы относительно Екатерининского тракта, который, по его мнению, проходил вовсе не через деревню Кизерь, которая находится в Уржумском районе, а гораздо севернее – по Кильмезскому району. Чтобы доказать обратное у местного краеведа аргументов не хватило. В ход, как водится, пошли кулаки. Правда, и здесь Мамонтов-Сахалинский едва не одержал заслуженную победу, но подоспевшие сподвижники красновятского краеведа переломили ход сражения.
Странствующий писатель был сильно избит и долго потом отлеживался где-то в Максинери – небольшой деревушке, расположенной на высоком бугре, откуда открывался прекрасный вид на заливные луга и бескрайний лес вдоль берега Вятки.
Зигзаги судьбы
Между тем жизнь в Осиновке продолжалась. В ней появлялись новые жилые дома, детские сады и школы. И, что самое замечательное, в Осиновке продолжали рождаться дети – новые граждане новой страны.
Первый ребенок у местного ветеринара Николая Киреева и его жены Лукерьи появился здесь в 1953 году.
Мальчика назвали Борисом. Он рос, кажется, не по дням, а по часам. Как все деревенские мальчишки, он был угловат и стеснителен. Зато к своим семнадцати годам Борис выглядел, как зрелый юноша, отслуживший в армии.
Характер он имел мягкий, но при этом обладал необыкновенной физической силой. И сила эта была у него какая-то природная, земляная, пришедшая как бы сама собой, без особых усилий. Потому что Борис с малых лет колол дрова, носил воду из колодца, убирал снег во дворе. Ни гирь, ни гантелей он не поднимал, к штанге близко не приближался, но с каждым годом все яснее ощущал в себе неуемную мужскую силу. Энергию, бьющую через край.
Всю зиму Борис ходил по Осиновке в свитере из черной овечьей шерсти, шапки и картузы никогда не носил, но при этом щеки у него всегда горели ярким румянцем. Волнистые волосы Бориса скатывались до плеч тяжелой русой волной. И когда на эти волосы ложились первые невесомые снежинки, когда таяли на них, превращаясь в мелкий бисер, то становилось понятно, отчего так много местных девушек сохнет по этому парню…
Хотя Борису всегда нравилась только одна. Та, которая отличалась от остальных вовсе не красотой и умом, не веселым нравом и скромностью, а тем строением тела, при котором девичья талия кажется особенно тонкой оттого, что бедра девушки непривычно широки. И, чем заметнее, чем контрастнее становились эти пропорции с годами, тем сильнее влюблялся в эту девушку Борис.
Это может показаться странным, но довольно часто во сне он видел вовсе не бледное лицо своей новой пассии, не её манящие глаза, а её большой соблазнительный зад, весьма живой и подвижный.
Несмотря на бойкий природный ум, в школе Борис учился плохо и очень рано получил пугающее прозвище Ломовщина.
В любой компании он легко находил себе друзей – ценителей мужской силы, людей, чувствующих себя уютно только под чужим крылом. Чаще всего именно эти друзья хлопали Боса по плечу и просили для общей потехи что-нибудь поднять или изогнуть. Борис охотно поднимал, изгибал, потом правил, краснея от усердия и удовлетворенно улыбаясь. За спор Борис переносил с места на место двухсотлитровую бочку с водой, перетаскивал на плече шестиметровые березовые бревна, упавшие с лесовоза на крутом повороте.
Постепенно о Ломовщине узнала вся округа. Приезжающие из соседних деревень мужики и бабы непременно спрашивали у случайных прохожих: «Где у вас тут богатырь живет? Уж очень на него посмотреть охота». И если встречали Бориса на дороге, то обязательно здоровались с ним, улыбались ему и долго смотрели вслед завистливыми глазами.
Между тем к восемнадцати годам Борис стал необыкновенно красив. Его красота была достойна мужчины – неброская, но мужественная. Это была красота молодого зверя, которому под силу справиться с любым известным на земле хищником. Однако он не разучился и стесняться. Густо краснел, когда говорил с девушками, боялся поднять на них глаза и выражал свои мысли как-то туманно, невпопад, от скованности путая слова.
Сейчас даже замужние молодухи стали на него заглядываться. Это были жадные и обольстительные взгляды. Это были взгляды оценивающие и вместе с тем обреченные на непонимание, потому что небольшие размеры Осиновки не оставляли надежды на тайну. Борис тоже иногда с вожделением глядел на местных молодух, пытаясь найти среди них самых соблазнительных, но таких, как Лариса Попова, не находил.
Года три уже прошло с той поры, как понравилась ему Лариса, но сказать ей об этом он всё никак не решался. Смелости не хватало. Да и Лариса при встрече с ним всегда делала вид, как будто ничего не замечает, ни о чем не догадывается. Даже после того, как Катька-раскладушка Бориса с танцев увела, Лариска не опомнилась.
Зато Борис после этого случая сник.
Он вдруг понял, что сладость женщины вовсе не в формах, а в чувственном опыте, в зрелости желаний. Он пришел к Катьке еще раз, потом еще и вдруг осознал, что не сможет без нее жить, хотя это, наверное, и не любовь вовсе, а какая-то мучительная тяга.
Худая, как вобла, широкоплечая и узкозадая Катька с копной рыжеватых волос, увядающая красавица с темно-синими глазами, горячая в постели и постоянно замерзающая на легком ветру, – она перевернула в сознании Бориса его представление о настоящей женщине, о женской страсти и женской нежности.
В восемнадцать лет он решил, что обязан на Кате жениться. Кажется, ничего более нелепого нельзя было придумать. Сорокалетняя женщина выглядела рядом с ним, как мать, но его предложение восприняла с радостью и даже всплакнула от неожиданности. Он, конечно, не подходил ей по возрасту, но как мужчина очень даже устраивал. Пугало Катю только мнение окружающих, потому что она имела славу распущенной женщиной, а семья Киреевых всегда отличалась большой строгостью нравов.