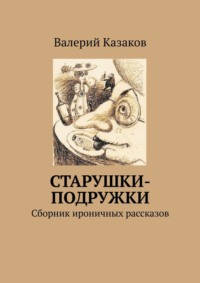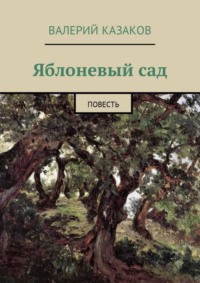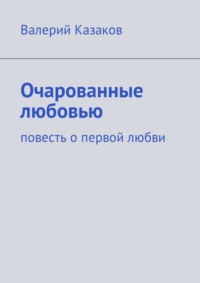Полная версия
Я, Мара и жена Тамара. Повести и рассказы
Задирая вверх подборок, я работал руками из последних сил. Но уверенных движений у меня почему-то не получалось. Все силы забирал какой-то неведомый доселе страх. И еще все это время меня угнетал один и тот же вопрос: «Почему я? Почему так глупо? Почему именно сейчас, когда я так нужен жене и детям»? Этот страх и эта обида лишали меня сил. Я понимал, что должен успокоиться, должен найти нечто рациональное в данный момент и не мог сосредоточиться, не мог найти в себе силы стать спокойным и рассудительным. Не знал, как это сделать. Я видел перед собой ворох брызг, безразличное небо над головой, перевернутый кверху дном ботник и темный берег вдали, который почему-то не приближался. И это больше всего пугало. «Нет! Нет… Я не могу сейчас утонуть! – говорил я с сам себе. – Я выплыву. Пусть не здесь – дальше. Но всё равно выплыву! Должен выплыть! Ведь я не чувствую холода. Холод меня не сковал. Меня сковал страх. А страх – это грех. С грехом надо бороться. С грехом надо бороться из последних сил… Надо! Надо! Надо перебороть страх, грех, отчаянье, тьму немой вечности. Всё надо перебороть. И тогда я выплыву. Я обязательно выплыву. Я должен это сделать».
В общем, как я добрался до берега, сейчас я представляю с трудом. Помню только, что больше всего в последние секунды перед выходом на такой, казалось бы, близкий сухой берег меня угнетал вовсе не холод, меня угнетало кое-то роковое, опустошающее бессилие. Я знал, что мне нужно встать с влажной травы и дойти до своей тёплой будки каких-то тридцать – сорок метров, чтобы переодеться, чтобы выпить горячего чаю, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я, кажется, толком не понимал, что со мной происходит. Вечность, только что смыкавшая надо мной свои черные крылья, кажется, отступила. Она оставила мне шанс, а я лежу без движений, без сил на отмели рядом с берегом и не могу подняться…
Опомнился я оттого, что Мара облизывала мое лицо. Я открыл глаза. Всё кругом было залито ослепительным солнечным светом, всё млело от майской жары. Где-то рядом со мной гудели на солнцепеке пчелы, порхали невесомые бабочки, беззаботно пели птицы, а мне было холодно. Ужасно холодно и одиноко. Я удивился, что всё ещё лежу на влажной траве в мокрой одежде.
Кое-как я поднялся с земли и побрел к своей будке. Там переоделся, подкинул охапку дров в железную печь, где все ещё тлели угли. Сел на тёплый топчан возле печи, выпил горячего чаю и только после этого почувствовал, что ко мне возвращаются силы. Я жив. Я вижу, слышу, осязаю. Мои руки и ноги шевелятся, как раньше, но где-то там, в душе, я, кажется, стал другим. Я сделался старше, трезвее и расчетливее. Я совершенно лишился юношеского безрассудства…
Мой термос скоро опустел. Я поставил на печь старый железный чайник, бросил в него пару веток брусничника, горсть ягод шиповника, пучок свежей крапивы, дождался, когда это всё закипит, и, укрывшись ватным одеялом, пил горьковатый отвар из трав до самого вечера. Потел, иногда засыпал, просыпался и снова пил, и к окончанию рабочего дня почувствовал себя совершенно здоровым человеком. У меня, кажется, не было даже насморка. Только рыбачить мне больше не хотелось.
И тут я вспомнил, что на середине протоки, которую я пробовал пересечь вместе с лосем, с прошлого года лежит огромное мертвое дерево с оголившимися от коры, белыми, похожими на ребра древнего животного ветвями. Скорее всего, сильным теченьем меня затащило на крону этого дерева. А всё остальное – это всего лишь роковое стечение обстоятельств…
Когда поздним вечером в тот день я пришел к лодке, чтобы отправиться домой, мужики меня не узнали. Я им показался каким-то другим. Старше своих лет, что ли. А Михаил Иванович огорошил меня, сказав, что в моем лице появилось что-то от ликов святых…
Карамба
В конце мая вздымщик третьего участка, которого все работники леспромхоза почему-то называли Карамбой, опять запировал или, как у нас говорят, «загудел». Карамбу мы недолюбливали. Пьяный, он вечно торчал у продовольственного магазина в какой-то грязной выцветшей фуфайке, застиранных брюках, немытый, непричесанный и просил у каждого встречного рубль на пиво. Он был как-то нескладно довольно высок, сутул и мрачен. Когда я в очередной раз увидел его серое безразличное лицо с глубоко посаженными водянистыми глазами, мясистым носом и крупным, выдающимся вперед подбородком, я почувствовал, что скоро к нашему бригадиру Михаилу Ивановичу подойдет мастер Морозов с виноватым лицом и попросит помочь Карамбе в последний раз, иначе план по добыче живицы мы не выполним, сезонной премии не получим или, хуже того – готовый к подсочке участок всё лето без дела простоит.
Короче говоря, нам пришлось ставить приёмники ещё на одном участке. Работали мы всей бригадой: я, Михаил Иванович и Николай Васильевич.
О Михаиле Ивановиче, пожалуй, надо сказать отдельно. Этому человеку было уже за пятьдесят с лишним. С раннего детства Михаил Иванович только и знал, что исполнял какую-нибудь тяжёлую ручную работу и никакого иного призвания за собой не чувствовал. С самого детства он всем был должен. Все от него чего-то требовали, ждали, желали получить. Даже любовь порой представлялась ему некой приятной работой, от которой к старости он стал уставать… Иногда ни с того ни с сего он хвастался, что может класть печи и катать валенки, а вот оконные косяки вставлять так и не научился, хотя кой – какие навыки по столярной части у него имеются и всё, что требуется для дома, он может выполнить своими руками. Были бы в наличии нужные для этого инструменты.
В трезвом виде Михаил Иванович шуток не понимает, а пьяный без умолку смеётся над всякой ерундой и других пытается рассмешить. Правда, это у него не всегда получается. Сразу видно, что рассказчик из него неважнецкий.
Николай же, наоборот, любит поговорить, правда, его рассуждения никогда не бывают оригинальными. Обо всем, что он пробует нам поведать, я почему-то знаю заранее. Такое впечатление, как будто мы с ним бывшие одноклассники или, по крайней мере, старые друзья, как будто с детства читаем одни и те же книги, смотрим по вечерам одни и те же телепередачи. Хотя он на три года старше меня и жена у него учитель с высшим образованием. Я бы о ней не упомянул, но не стану скрывать – она мне нравится. Сейчас я не могу сказать, чем именно. И фигура у неё не совсем идеальная, и нос довольно большой. Но когда она улыбается, когда говорит со мной, смешно спотыкаясь на букве «эр», я начинаю испытывать к ней нечто напоминающее физическое влечение… Мне кажется, Николай своей жены недооценивает. Не понимает, какой она клад, какое сокровище.
Наша работа на новом участке шла медленно. Честно признаться, мы не очень-то усердствовали. Без конца отрывались на перекуры, подолгу обедали, пили чай, играли в карты. Потом к нам присоединился виновник всех бед – Константин Кедрин, по прозвищу Карамба. Дня три после длительного запоя он основательно похмелялся, становился навязчиво весел, вешался Николаю на шею, в приступе благодарности лез ко мне целоваться и при этом называл нас всех «робятами». «Робяты, как я вас люблю! Если б вы знали! – то и дело повторял он, плетясь вслед за нами до своего участка. – Вы настоящие друганы!»
К концу недели мы кое-как управились с непредвиденной и ненужной нам работой. Устало разбрелись по своим участкам и принялись добывать живицу. Дни стояли уже на редкость тёплые, солнечные, безветренные. Золотистые сосны на песчаных гривах весь день стояли по стойке «смирно» и редкие продолговатые облака сейчас проплывали над ними, как некие мимолетные виденья.
На окраине леса распустилась и зацвела черёмуха. Её запах всегда чем-то волнует и будоражит меня, как могут волновать и будоражить только духи любимой женщины.
Так устроена жизнь
Какое-то время у меня в лесу всё было хорошо, а потом неожиданно возникли новые трудности.
Пойму, которая отделяет мой участок от необъятных просторов тайги, за прошедшую неделю полностью затопило талой водой, и теперь даже в болотных сапогах я с трудом переходил через неё на свою сосновую гриву. Вода была всюду, и всюду было зеркальное, отражающее облака небо. И всюду из этих облаков торчали наполовину затопленные деревья и кустарники, какие-то полусгнившие стволы и корневища.
Так вот, однажды, когда я уже выходил на сушу, когда Мара, помахав хвостом, привычно убежала к будке – впереди меня на бугре вдруг возникла тёмно-бурая, возбужденная лосиха.
Я остановился. Лосиха грозно притопнула передними ногами, раздула ноздри и громко зафыркала. Я же не сразу сообразил, в чем тут дело.
Оказывается, невдалеке от того места, где она находилась, на матовом от солнца брусничнике лежали два ее огненно-рыжих лосенка. Причем, лосята, скорее всего, видели меня, но почему-то не выказывали беспокойства.
Я остановился. А что ещё было делать?
Волей – неволей мне пришлось взбираться на дерево. Кое-как я вскарабкался на корявый ствол березы до первой широкой развилки и подумал о том, что моя работа сейчас напоминает самую настоящую партизанскую войну, когда на каждом шагу тебя подстерегают опасности: то медведи, то кабаны, то лоси. Да тут ещё клещи появились. На работу уходишь, как в тыл к противнику, и, уходя, не знаешь, вернешься ли обратно. Тут уж никакая собака не в силах помочь.
Какое-то время я сидел на дереве, обняв его руками и тоскливо глядя по сторонам. Потом, от нечего делать, решил втолковать лосихе, что мне её рыжие неуклюжие лосята вовсе не нужны. Мне просто надо добраться до будки, и если лосиха одумается, если отойдет чуть – чуть в сторону, мне будет этого вполне достаточно, потому что сидеть на дереве я долго не смогу, я не дятел какой-нибудь, я человек. Хотя в какой-то мере, может быть, я уже и не человек вовсе, а некий непутевый зверь, которого обстоятельства загнала в самую чащу дикой российской жизни.
Лосиха, кажется, внимательно слушала меня. Она уже не фыркала и не топала ногами, но и не проявляла при этом никаких признаков понимания. Сложно было разобраться, что при этом происходит в её большой, лохматой голове. Я продолжал приводить ей убедительные доводы своего миролюбия, идущего от моей явной беззащитности, но, в конце концов, видя ее безразличие, вынужден был послать её к чертовой бабушке. Потом стал материться, как сапожник, обзывать её дурой, вертеть пальцем у виска. И это, кажется, подействовало. Она что-то поняла. Вернулась к своим лосятам, обошла их с другой стороны, издала странный звук, чем-то похожий на пенье жабы перед дождем, и стала медленно удаляться. Лосята неуверенной походкой последовали за ней…
А ещё через несколько минут я был у своей неказистой будки. Там под разлапистой елкой на мягкой лесной подстилке беззаботно нежилась на солнце моя Мара. Когда я подошел к ней достаточно близко, она подняла свою рыжую лохматую голову, сонно посмотрела на меня, потом опустила веки и, успокоено вздохнув, снова вытянулась на своей лежанке.
Странно всё – таки устроена природа. Мара прошла перед самым носом у лосят и не заметила их, не определила по запаху, а лосята в свою очередь ничем не выдали себя. Эта врожденная способность затаиться, видимо, их и спасает. Или Мара перестала воспринимать лосей как настоящих зверей и видит в них неких длинноногих лесных коров.
Вкус пива
На следующий день было воскресенье. Погода снова стояла прекрасная. С самого утра сквозь легкий сизый туман медлительным медовым потопом проливалось на землю солнце. В небе пел жаворонок, глянцевито блестела первая, влажная от росы трава, а мне почему-то сделалось грустно. Я вырвался из леса на целый день, избавился от одиночества и сейчас мне очень хотел поговорить с кем-нибудь «по душам». Наверное, поэтому я так быстро согласился пойти на шабашку с Костей Карамбой, который неожиданно появился возле калитки с колуном в руке. Он был в синей выцветшей рубахе, темных китайских брюках и кирзовых сапогах.
Потом мы кололи дрова у шустрой для своих семидесяти лет старушки Натальи Карповны и говорили о разных пустяках. На обед она припасла нам литровую банку самогона, выставила на стол вместительное блюдо соленой капусты с подсолнечным маслом, потом добавила маринованных огурчиков, поджарила в чугунной сковороде десяток куриных яиц, и мы как-то незаметно, рюмка за рюмкой, ложка за ложкой всё это выпили и съели. Весело заговорили о современной российской политике, о нашей работе, потом о соблазнительных женщинах с мощными ягодицами. Короче говоря, сильно запьянели и дрова доколоть уже не смогли, только сутуло сидели возле низкого забора рядом с поленницей свежих чурок и громко разговаривали, размашисто жестикулируя руками. Потом, кажется, что-то пели, пугая прохожих своими бандитскими красными рожами и оглушительно громкими голосами. Немного позднее я рассказал Константину про лося, который меня едва не утопил, про то, как вместе с лосем я лишился превосходного ботника. Но Карамба, кажется, ничего не понял, потому что смотрел на меня слишком весело и всё ждал от меня чего-то ещё, не то более смешного, не то более занимательного, чем эта странная, не слишком-то похожая на правду история.
Немного погодя рядом с нами откуда-то появился старый друг Карамбы Иван Бердников. Он был уже навеселе, поэтому уверенно сел между нами, обнял нас за худые плечи, стал что-то энергично рассказывать своим басовитым громким голосом. Он рассказывал и посмеивался. Мы, правда, уже плохо понимали, о чем он говорит, но постепенно нам тоже стало смешно, потому что с боку лицо Ивана показалось мне очень похожим на гармошку… У Ивана в сетке была трехлитровая банка с пивом, поэтому он с полным правом пригласил нас к себе во флигель.
– Посидим там в холодке. Помечтаем. На шедевры мои поглядите, которые я сам срисовываю с картин старинных мастеров.
– Ну, пошли, коль не шутишь, – согласился Константин.
Во флигеле у Ивана было хорошо, прохладно и уютно. Там по стенам были развешаны картины, изображающие пышноволосых и краснозадых женщин, сквозь пол росла малина, а на единственном подоконнике толстым слоем лежала белесая пыль вперемешку с дохлыми мухами. Нельзя сказать, что во флигеле было сумрачно, но нечто вечернее явно проступало сквозь мутное стекло в сад. В этой обстановке уже через полчаса мы тоскливо запели.
Клен ты мой опавший,
Клен заледенелый,
Что стоишь, согнувшись,
Под метелью белой…
Но в конце очередной песни Карамба вдруг увидел пустую банку из – под пива у себя перед носом, громко расплакался и стал с чувством жаловаться на свою беспросветную жизнь. Сказал, что жена ему изменяет. Потом громко выкрикнул: «Вы ничего не знаете, робяты! Ничего не понимаете!» – и выскочил из флигеля вон. Немного позднее я заметил его в густом малиннике сидящим на корточках со спущенными штанами. Он сидел, делал свое «дело» и горько плакал.
После его ухода во флигеле стало так тоскливо, что меня неожиданно стошнило. Иван в это время посмотрел на меня осуждающе и многозначительно изрек: «Ну вот, расставлены все точки над «и»…
Серьёзная женщина
А в понедельник вечером ко мне пришла Наталья Карповна, снисходительно погрозила желтоватым пальцем и попросила доколоть дрова – «раз уж взялись, дак». Объяснила, что на прошлое она не обижается, с кем не бывает, только напомнить пришла по пути за хлебом, что обещанное нужно исполнять. Немного помолчала и посетовала: «Хлеб два дня не привозили из района, из-за этого в магазине сегодня давка. Еле – еле до прилавка добралась. Вся ухомаздалась».
Вечером мне пришлось докалывать дрова одному. Я колол сучковатые тюльки, потел, вытирал лоб матерчатой кепкой и думал о том, что жизнь устроена отвратительно. Несправедливо. Глупо. Поэтому человек, который много и хорошо работает, всегда и всем должен, а единственное чувство, которое он при этом испытывает, – это чувство усталости. Он обречён уставать, пока жив, и вместе с уважением в старости к нему обычно приходят болезни, а вместе с предполагаемым отдыхом – смерть. Но даже если он умирает, люди, чаще всего, скорбят не об утраченной навсегда интересной, своеобразной личности, а, скорее, о потерянном работнике. Им дела нет до той несвободы, которую он ощущал всю жизнь.
После ужина ко мне пришла жена. Села на большую осиновую тюльку возле забора и спросила:
– Чего это ты, Андрей, так и будешь один дрова колоть? Друг-то твой где шатается?
– Не знаю, – ответил я, еле сдерживая раздражение.
– Вот те на! – удивилась жена.
– Ну, не пришёл пока. Что я, искать его буду?
– Значит, вино пить вместе, а работать – врозь. Так что ли? Интересно получается.
Я хотел было снова огрызнуться на неё, но не смог. Жена была в шелковом голубом халате с горошками. Ей идет этот цвет, потому что глаза у неё тоже голубые и наивные, как у ребенка. Только в последнее время я замечаю в них всё больше грусти. Я замечаю в них больше глубоких холодных теней, чем яркого тёплого света. Наверное, в этом есть и моя вина.
– Тогда не надо было за работу браться, если не уверен в человеке, – с укором продолжила Тамара. – Хотя какой он человек. Пропойца несчастный!
– Доколю без него. Не переживай.
– Давай! Докалывай! Ты всю жизнь так. За всех один отдуваешься… Думаешь, люди тебе за это спасибо скажут? Не надейся… Вот я на тебя гляжу – и мне тебя жаль. Больше ничего. В чем только душа держится, кожа да кости. Да ещё надо сегодня навоз у коровы вычистить, воды с колонки в баню натаскать.
– Ну и что?
– Ничего… Бросай всё и пошли домой. Бросай и пошли, а то заплачу сейчас у всех на виду… Кожа да кости… И что за мужик такой упрямый…
И мне, действительно, захотелось всё бросить к чёртовой бабушке: и дрова, и лес, и домашнее хозяйство. Не мое это дело. Не моё! Надо же когда-нибудь отдохнуть по-человечески. Это раньше считалось, что физический труд полезен, что он облагораживает, даже лечит. А сейчас об этом уже никто не вспоминает. Даже лозунг «Кто не работает – тот не ест!» стал звучать как издевательство, потому что производитель, работник как раз и получает за свой труд меньше всех. А тот, кто не работает на производстве, но распоряжается плодами чужого труда, тот всё имеет.
В общем, к вечеру я дрова доколол. Зашел к Карповне, отчитался о проделанной работе. Потом, преодолевая чувство брезгливости, чисто из уважения к старому человеку, выпил два стакана браги, приторно отдающей уксусом, и вышел на улицу, чувствуя тошнотворную тяжесть в желудке и запоздало осознавая, что в благодарность за всё меня, кажется, отравили…
Через какое-то время мне стало дурно. На ватных от слабости ногах я зашел за сельповские поленницы возле дороги, где вовсю благоухали высоченные лопухи, лег там на спину и долго – долго смотрел в небо с тоскливым равнодушием. Небо было цвета молочной сыворотки с тёмным крошевом птиц в самом зените. Глядя в него, я почувствовал себя никому не нужным, бесконечно одиноким человеком. И мне захотелось умереть, чтобы не видеть этого пустого бездонного, равнодушного неба, этой жирной зелени, не чувствовать тошнотворного запаха, наплывающего откуда-то справа, от приземистого дощаного туалета, склонившегося над оврагом. Жизнь вдруг показалась мне лишенной всякого смысла – отвратительным путешествием от одной неразрешимой проблемы к другой. От одного противоречия к другому. Что в ней хорошего? Что ценного? Ведь вокруг меня только пустота и хаос. Хаос и пустота…
И в это время рядом со мной вдруг появилась Мара. Она буквально выросла из-под земли, радостно лизнула меня в щеку, легла рядом, весело замахала рыжим хвостом. Я обнял её за теплую лохматую шею, уткнулся своим лицом в её тёплую и доверчивую морду. И на секунду успокоился. Что самое странное, от Мары на этот раз пахло самой настоящей лесной свежестью. Шерсть у неё приятно блестела, коричневые с желтинкой глаза излучали искреннюю преданность.
Через какое-то время мне сделалось легче. Я с трудом поднялся и направился в пивной бар на центральную улицу, чтобы выпить кружечку свежего пива, расслабиться в холодке, поговорить с кем-нибудь «по душам». Моя утомленная грустными мыслями душа желала общения.
Стихия стиха
В небольшом помещении бара на этот раз было сильно накурено. Незнакомые люди в углу, у окна, громко о чем-то спорили, а пиво, как назло, оказалось старое, какое-то слишком тёплое и подозрительно пенистое. Когда я зашел туда, то никто не обратил на меня внимания. Правда, уже через несколько минут ко мне подсел один из местных завсегдатаев, Леха Шарабора, и, размахивая пустой кружкой, предложил выпить за его лучшего друга Сашу Баранова. Вид у Лехи был такой убогий и такой беззащитный, что я уже готов был пожалеть его – купить ему пару кружек теплого пива. Пусть выпьет за мое здоровье. Но этот человек вдруг начал философствовать.
– Ты извини меня, Андрей, что выгляжу так несерьёзно. Понимаешь, друг мой Саша Баранов помер. Хороший был человек, добрый, правда, выпить любил… А чего? Это неплохо, когда хороший человек выпить любит.
После этого Леха сделал задумчивое лицо, немного помолчал и продолжил:
– Я про него стихи написал. Хочешь послушать? Вот слушай тогда…
И Леха стал читать свои стихи, слегка склонившись к моему уху:
Живем размеренно и жестко,
как будто принудили жить,
и сердце жалобно дрожит,
как в бурю чахлая березка.
Так над жнивьем дрожит рассвет
полоской красной киновари.
Жизнь дорога для каждой твари…
Жаль – смысла в этой жизни нет.
Леха вдруг перестал читать и замолчал, потом махнул рукой сверху вниз так резко и многозначительно, что объяснять ничего стало не нужно. Это был итог – черта, разрушающая все привычные догмы.
– А дальше? – спросил я после недолгой паузы.
– Дальше не буду читать. Дальше очень жалостливо. Боюсь, расплачусь… Я ведь раньше учителем истории был, десять лет в школе преподавал. Вот… А сейчас стал бродягой, босяком, Лехой Шараборой. Бутылки по обочинам дорог собираю. Стыдно мне, знаешь ли. Но ты меня не жалей, мне жалость не нужна. Я просто хочу, чтобы меня понимали, для этого и пью… Сам знаешь, что пьяные люди понимают друг друга с полуслова. Никакие условности им не мешают, не страшат никакие проблемы… Вот мать у меня была гулящая женщина. Это правда. Ну и что? А я её всё равно любил. И никогда не стыдился. Мы тогда в Отрясах жили, на большой дороге. У нас всегда проезжие шофера останавливались и прочие барыги, без определённого рода занятий. Мать с ними выпьет, песни запоет, а потом – сам понимаешь… Но мы с сестрой этому значения не придавали, не замечали дурного ничего. У нас была своя жизнь. У матери – своя. Мы выучились, образование получили. Как говорится, из грязи – да в князи… У сестры получилось, а у меня нет. Сестра-то моя сейчас в большом городе живет, детей воспитывает, гнездо вьет, а я вот – не сумел удержаться… Сестра мою мать доходила, докормила – всё как положено, как у людей… А Саша Баранов мой друг был. Всю войну человек прошел, там его и контузило…
Леха что-то ещё договорил загорелой до черноты рукой. Этот взмах его руки был уже не таким резким и катастрофическим, как первый. Он означал больше чем паузу, но меньше, чем обреченность.
– Помнишь, он ещё ходил так, немного боком, как бы крадучись. Со всеми здоровался, всех по имени отчеству называл. А пацанята, которые ничего про него не знали, его называли Сашей – дурачком… С головой у него, правда, было что-то этакое. Иногда вдруг так умно заговорит, что невозможно понять, а иногда весь вечер ерунду порет. Короче, сдвиг небольшой по фазе, как у всех очень умных людей… И никто его не понимал из—за этого. Даже я, если трезвый, не понимал. А пьяный всегда понимал, честное слово. Беседовал с ним за милую душу… Я ведь тоже старый зимогор. Мне что… Я зимой – по бабам, летом – по шабашкам! А Саша один жил в своей конуре, вот ему и наскучило… Пенсию ему платили пять тысяч рублей. Ну, подумай сам, что сейчас на эти деньги купишь?
– Пять тысяч – это не деньги, – со знаньем дела ответил я.
– Вот! А Кольку Луковку помнишь?
– Помню. Он в прошлом году коньки отбросил.
– Да. Тоже хороший человек был. За друга мог всё отдать… Да ты не смотри на меня так-то, не смотри. Жалеть меня не надо. Я ведь тоже человеком был, в высоких материях разбирался, Эдгара По читал, Марселя Пруста, Лескова. Только приходит время, когда осознать надо, что к чему? Куда человечество движется, куда катится Россия? И какая в этом движении суть?
Леха поднял вверх указательный палец.
– Вот тут-то и подстерегает нас пьянство, потому что ни черта в этой жизни понять невозможно. Ложь кругом и лицемерие, катастрофический хаос… Я только в одно сейчас верю – в Бога. Он не обманет и не предаст, он придет и успокоит. В настоящей религии скрыта великая сила… И поверить в Него просто. Только полюби, только молись, проси прощения – вот и всё. Остальное приходит само собой… Ну, посуди сам, чему я мог детей научить, если сам ничего в этой жизни не понимал? Тому, что в наших книгах написано? Так ведь там всё ложь. Всё – враньё! Всю историю переврали, всю литературу… И продолжаем врать… А ведь, если разобраться, мы, русские, – самые несчастные люди на земле. Самые несвободные, самые дикие. Варвары мы, и культура у нас варварская. Мы все здесь в России постоянно скованы какими-то обстоятельствами. Только и раскрепощаемся, когда выпьем. Лезем друг к другу, чтобы по душам поговорить. А кому наши пьяные разговоры нужны? Вот ты признайся честно, тебе интересно меня слушать? Неинтересно? Вот видишь! Ты на хлебе вырос, я – на лебеде. Нам друг друга не понять… Да и понимать-то ни к чему. От нас с тобой только одно нужно, чтобы мы работали как следует, а рассуждать за нас другие будут. И сети словесные на нас расставят другие, и поймают, и сожрут другие… Они за свои умные рассуждения деньги получают. Это их работа. Такие люди при любой власти нужны. А мы при любой власти только работники, народонаселение – базис для будущего строительства…