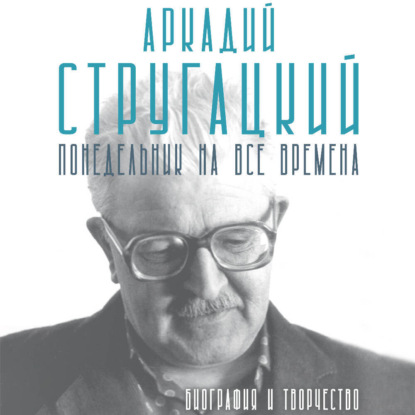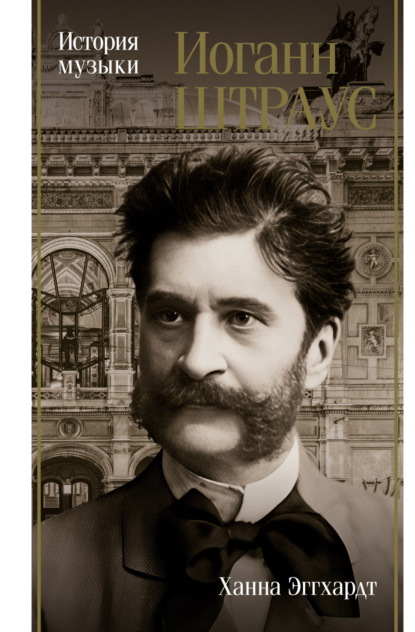Полная версия
Дочки-матери. Мемуары

Елена Георгиевна Боннэр
Дочки-матери. Мемуары
© Елена Боннэр, текст
© Татьяна Янкелевич, Алексей Семенов, текст
© ООО «Издательство АСТ»
Предисловие
Вспоминая Елену Георгиевну Боннэр
Каждого въезжающего в Иерусалим на так называемых Римских Подъемах встречает надпись на русском, иврите, арабском и английском – «Сады Сахарова», выбитая на мраморных плитах, укрепленных на склоне библейской Масличной горы.
На церемонию открытия Садoв в память Андрея Дмитриевича Сахарова в начале июня 1990 г. по приглашению его инициаторов, Тэдди Коллека, мэра Иерусалима, и Натана (Анатолия) Щаранского прилетела из Москвы моя мать Елена Боннэр. Накануне открытия мы с ней вдвоем ужинали в ресторанчике неподалеку от нашей гостиницы, и она сказала: «Знаешь, я придумала название книжке – «Дочки-матери». «Очень хорошо», – ответила я.
Речь шла о еще не опубликованной книге, написанной мамой после смерти бабушки. «Дочки-матери» вышли впервые по-русски в начале 1991 годa в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке, за этим последовало много изданий на разных языках. В России эта книга была издана один раз, четверть века назад, в 1994 году.
Наша бабушка Руфь Григорьевна Боннэр умерла 25 декабря 1987 года, через полгода после того, как я привезла ее домой в Москву из Америки. 18 августа 1987 года ей, ровеснице века, исполнилось 87 лет.
Прошло чуть меньше двух лет, и не стало Андрея Дмитриевича. В «Эпилоге к «Дочки-матери» мама напишет: «Я закончила эту рукопись летом 1989 года. В начале сентября Андрей прочел ее и тепло, с оттенком зависти, сказал: «Ты пишешь лучше меня». Я ответила: "Преувеличиваешь!" Но мне было радостно.»
На вопросы о том, «что было дальше», и на многие просьбы написать продолжение «Дочки-матери», мама отвечала: «Без Андрея ничего уже писать не буду». Но она писала – без него, но всегда для него.
В детстве я помню маму если не пищущей, то как-то связанной в моем сознании с «писанием», с литературой – составление книжки стихов и дневников Севы Багрицкого, редактура ее гранок, поездки в Москву и встречи с Севиной мамой Лидией Густавовной Багрицкой – все это воспринималось именно в этом ключе. Позже, после возвращения родителей из рабочей поездки в Ирак в составе советской делегации в оспопрививочной кампании Всемирной организации здравоохранения, помню ее записки «В Ираке», опубликованные в ленинградском журнале «Нева» за 1961 год, которые мне очень нравились, нравятся и сейчас…
Мой брат Алеша в детстве много лет тяжело болел, мама ходила за ним по больницам. После длительной госпитализации Алеши в 60-е годы в Москве в Русаковской больнице, знаменитой старинной детской больнице в Сокольниках, она написала интересный очерк «Пропустите маму» о бесчеловечном казенном оотношении к детям-пациентам кардиологического блока, где лежал мой шестилетний брат. В нем сильно сократили острые моменты, но все же опубликовали в газете «Медицинский работник». Очерк наделал много шума, была масса писем в редакцию.
В 60-е годы мама сотрудничала с литературной консультацией Союза писателей СССР. Ей давали рукописи начинающих писателей. Было видно, что за этими текстами стоит огромный человеческий материал, часто трагический. Нужно было уметь так написать авторам, чтобы не ранить их, подбодрить. Кому-то подсказать другой путь – если не писательский, то репортерский.
В «диссидентское», правозащитное время мама была автором или соавтором и редактором многих документов, текстов обращений, а в 1980е годы – единственным автором документов Московской Хельсинкской группы, состоявшей на тот момент из трех членов: ее самой, Софьи Васильевны Каллистратовой и Наума Натановича Меймана.
После смерти Андрея Дмитриевича это были уже не книги, а публицистика – острая, страстная, на злобу дня и на разные значимые даты; послесловия и предисловия: к переизданию «Воспоминаний» Сахарова, к «Дневникам», к книгaм «Постскриптум: Книгa о горьковской ссылке», «Дочки-матери».
Были тексты – нет! – куски живой жизни, заполняющие лакуны в «Дневниках» Андрея Дмитриевича, роману-документу, как она его назвала, – насыщенные напряжением, тревогой, ощущением неразрывной близости друг друга…
И были «Вольные заметки к родословной Сахарова»: эта книга, как никакая другая, была продолжением ночного разговора, описанного в «Эпилоге к «Дочки-матери»: «А ночью, как будто не было перерыва в разговоре, продолжил, что теперь он всех узнал: Батаню и Нюру, папу и маму. Он говорил как всегда – Руфь Григорьевну. О том, как ясно представляет ее – молодую, непреклонную, но вообще-то все такую же, какой знал. А потом сказал: «Ты от бабушки родилась, хоть и с армянским характером». Я ответила, что он тоже от бабушки…»
«Воспоминания» Андрея Дмитриевича начинаются со слов «К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности». Уже без него – но для него! – в 1991 году начались архивный поиск его родни и корней, которых он не знал, и работа над тем, что в 1995 году стало «Вольными заметками к родословной Сахарова». Труд любви, подтвердивший мамину настойчивую догадку – о пересечении линии семьи Сахарова с Пушкиным.
И все же все это было уже в другой, «странной жизни без Андрея», определении, данном ею самой в 1990 году, через два с небольшим месяца после его ухода в послесловии к «Постскриптуму». «Постскриптум: Книга о горьковской ссылке» был написан в Америке за три месяца в 1986 году, между операцией на открытом сердце с установкой шести (!) шунтов 13 января и возвращением в ссылку в Горький 4 июня. В ссылку, из которой они уже не надеялись вернуться, где уже купили места на кладбище… Написан он был «для него. <…> Я хотела, чтобы книга понравилась Андрею. Хотела заработать деньги. Но больше всего я хотела, чтобы она была в помощь всем, кто боролся за то, чтобы Сахаров был свободен.» Так писала и говорила мама; я добавлю: и еще для того, чтобы осталось свидетельство.
«Дочки-матери» тоже стали свидетельством. Свидетельством того времени, через которое прошла ее семья и она сама, свидетельством ее верности памяти дорогих ушедших, и свидетельством личности и характера, начало которым лежит в детстве, пришедшемся на 1920–30-e годы прошлого века. Свидетельством защиты справедливости и противостояния – от «коллегии адвокатов» в школе, от отказа выдать имя девочки, давшей «запрещенную» книгу, до от отказа выдать родителей и их друзей на допросах в 1937–38 годах в ленинградском «Большом доме»; впереди еще не одно такое противостояние…
Друг семьи, первый редактор книги и ее резензент Елена Гессен написала в журнале «Континент» в 1992 году: «Марсель Пруст сравнивал книгу с кладбищем. на многих плитах которого уже нельзя прочесть полустершиеся имена. Елена Боннэр своей горькой, грустной, трогательной и вместе с тем удивительно светлой книгой помогает прочитать – или по-новому осознать – многие и многие полустершиеся имена, спасая их от забвения».
Читатель этой небольшой книжки, которую мама упорно называла «женской» и «для женщин», поможет – независимо от своего пола – сберечь, спасти от забвения нашу общую правдивую историю и передать ее детям и внукам. Для них, для своих детей и внуков – и в надежде, что книга бытия будет продолжаться – и писала мама «Дочки-матери».
В завершение этого предисловия я хочу поделиться с читателем одним из писем, которые, возможно, он не сможет прочесть в «Постскриптум: Книге о горьковской ссылке», ставшeм библиографической редкостью издании, куда они были включены в 1986 году.
Эти письма должны были оказаться у нас в Америке летом 1984 года, до голодовки Андрея Дмитриевича и до суда над мамой. Но этого не произошло. Они были отобраны у мамы на обыске в 1984 годy, при аресте в Горьком. Мы получили их весной 1986 года, и мама, заканчивая у нас свою книгу о горьковской ссылке, включила их в нее с небольшим «предисловием».
Мне кажется, что в письме к нам – ее маме и детям – с удивительной четкостью отразились мамин характер и мироощущение, ее способность быть счастливой – и чуткость к трагичности и страданию этого мира, ее верность и мужество.
Читая эти строки, я с трудом сдерживаю слезы и повторяю себе мамины слова: «Жизнь была типична, трагична и прекрасна».
Татьяна Боннэр-Янкелевич10 января 2018 г., Бостон, СШАУмерла мама, и образовалась такая пустота, что казалось, разорвется сердце. Мне все время хотелось с ней говорить, что-то объяснить, спросить, вспомнить. Вдруг оказалось, что не хватило прошедшей жизни. Это толкнуло меня к белому, как снег в день маминых похорон, листу бумаги. День смерти, кладбище, поминки.
Я начала писать письмо детям. Что знаю о маминой семье, что слышала, что помню. Вначале вспоминать было трудно. Я как будто пробиралась через лесной завал, чтобы выйти на дорогу. Не могла припомнить чье-то имя, название места. Они всплывали в памяти ночью, уже почти во сне. Просыпаясь, я сделала открытие – память надо будить. Тогда писать стало легче. Как будто мне дали в руки клубок ниток. Я взяла за конец и потянула. Нитка все тянется и тянется.
Садясь за машинку, я каждый раз не знала, куда она меня приведет. Так пришло второе открытие: воспоминания – это когда не знаешь, что впереди. И они нерасторжимо связаны с каждым моим прожитым днем, моим «сегодня» и моим, если оно будет, «завтра».
А теперь передо мной лежит рукопись. Толстая. Она уже живет сама по себе, как всякая, в конце которой автор поставил точку. И я боюсь за читателя, что ему будет трудно идти вслед за мной.
Я не собиралась писать эту книгу. Я вообще не знала, что это будет книга.
Если меня спросят: «Это было?» – я отвечу: «Нет».
«Это правда?» – «Конечно».
I
… не может быть, ведь ты была всегда:В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,В тюремной камере и там, где злые птицы,И травы пышные, и страшная вода.О, как менялось все, но ты была всегда…Анна АхматоваВспоминаю и перебираю в памяти мамины последние дни, боюсь что-то забыть. Кажется, что я не все рассказала, упустила что-то очень важное. Но вот что?
В среду 23 декабря мама утром встала, как всегда, около десяти. Андрюша уже уехал. Я не помню, что у него было в этот день утром. Мама выпила кофе и съела кусочек булочки с медом. Потом пошла в ванную, и я услышала, что она как-то очень тяжело закашлялась. Я вошла к ней; она сидела на табуретке и сказала, что что-то нехорошо с сердцем. Я принесла ей нитроглицерин. Она вдохнула и через пару минут уже со мной вышла снова в кухню. Сказала, что болей нет, но сердце вроде как останавливается. Я ее уложила, но ей было неудобно лежать. Она снова села. Я положила ей за спину подушки. Пульс был слабый и неровный. Губы и ногти у нее посинели и руки стали холодные. Я налила все грелки и положила к ногам, поставив их на скамеечку, и к рукам. Дала ей валокордин, а через несколько минут – кордиамин, и сказала, что, пожалуй, вызову неотложку. Она как-то виновато полуулыбнулась и спросила: «Думаешь?»
Неотложка приехала минут через двадцать. К этому времени мама выпила несколько глотков очень крепкого кофе, и я положила ее тут же на кухне. Губы и ногти у нее уже не были такими синюшными, хотя и не приобрели нормальный цвет. Когда приехал врач, ей уже явно было лучше, но давление было низким. Ей сделали корглюкон внутривенно и ввели еще что-то, чтобы поднять давление, кажется, мезатон. Врач нашел хрипы в легких, но, узнав, что я уже четыре дня даю ей эритромицин, никаких других назначений не сделал.
С той минуты, как маме стало плохо, мне в душу запал страх, который как бы сконцентрировался в одной мысли: «Не вытащить мне ее в этот раз, не вытащить!» Когда врач уже уходил, пришла Белка. Я еще накануне договаривалась с ней, что она поедет оформлять мамины дела в поликлинике. И я ей сказала про свой страх. После ухода врача мама вроде как отлежалась, и я перевела ее в комнату, она немного подремала. Пришла Галя с Пеле. Вернулась Белка. Мы обедали, и мама тоже что-то поела, правда, в кухню не выходила, хотя и порывалась, но я не пустила. Стали смотреть телевизор – фильм, который все ожидали: «Больше света» – сжатая история страны с попыткой сказать то, о чем раньше принято было умалчивать – и коллективизация, и голод на Украине, и 37-й год, и перечень военачальников с цифрами, сколько их было репрессировано. Мама тоже с нами смотрела – телевизор придвинули к ней. И снова, как всегда, когда она возвращалась мыслью (или что-то внешнее ее возвращало) в то время, она начала нервничать и что-то говорила Галке довольно возбужденно, но скоро успокоилась. Галка ушла. А Белку я послала за кислородом – хотела, чтобы был на всякий случай. Белка скоро его принесла и ушла домой. Пришел Андрюша. Был обычный вечер, мама чувствовала себя почти как всегда, но я все же решила спать лечь здесь, у нее.
Спала она хорошо, совсем спокойно, на боку. В четверг утром позавтракала в кухне, но остальное время больше полеживала. Была у нее ее участковый врач. Нашла, что хрипов в легких немного, но все же, кроме эритромицина, назначила еще какой-то антибиотик и сердечные. Днем мама слушала музыку – Моцарта сороковую – и снова, уже в который раз, стихи Тарковского. Идти в кухню днем она особенно не рвалась, но когда слушала музыку, то сидела в кресле. К вечеру пришла Маша, как раз когда мама ела в постели. А потом забежала Лена. Я стала на кухне накрывать на стол и пришла к маме спросить, дать ли ей чаю с лимоном или с молоком, а у нее в это время был какой-то разговор с Машей, и она на мой вопрос ответила, что и не думает пить чай в кровати, а будет на кухне, и сама, хоть Маша порывалась ей помочь, натянула халатик и пришла к нам.
Это было на следующий день после выборов в Академию, и Андрей рассказывал о всех перипетиях общего собрания, а мы бурно проявляли свои эмоции по этому поводу. Мама тоже. И курила. Я обратила внимание на то, что она дважды закуривала, но после двух-трех затяжек сигарету бросала. В одиннадцать часов я сказала Маше и Лене, чтоб они уходили. Нам с Андреем надо было что-то печатать. Мама сама приготовилась ко сну. Я поставила ей горчичник, и мы на кухне устроились печатать. Когда я пришла снимать горчичник, то мама лежала раскрывшись и уже без него. Я начала ворчать, а она почти весело отругивалась. Я потушила у нее свет и вернулась на кухню. Там Андрей начал искать свои очки и уверять меня, что Маша их по ошибке унесла, а я – доказывать, что он сам вечно все теряет. Минут через пятнадцать я заглянула к маме. Она не спала, но на вопрос, как себя чувствует, ответила: «Ты иди спать к себе, я вполне хорошо себя чувствую. А что Андрей там опять ищет?» – «Уверяет, что Маша утащила его очки». – «Сам куда-нибудь засунул». Я снова ушла на кухню и заглянула к маме минут через десять. Она все еще не спала. Я спросила ее, не дать ли ей валокордина или эуноктина. Она ответила, что уже засыпает. Я нагнулась поправить ей одеяло, которое свесилось с кровати, и поцеловала ее. Она на это сказала: «Ну, что ты мне все подтыкаешь. Что я, грудная, что ли». И в голосе ее угадывалась улыбка.
Вот и прошел этот день. И тот страх, что был накануне, вновь не шевельнулся во мне. И ничто мне не подсказало, что это были последние мамины слова, обращенные ко мне, что идет последняя мамина ночь. Когда я еще раз спустя полчаса зашла к ней, она спала спокойно на правом боку, и дыхание было тихое, ровное. И я тоже мгновенно и спокойно заснула. Ночью я дважды вставала к маме. Она спала.
Утром Андрюша поднялся к нам около десяти часов. Мама не проснулась, и я пошла на кухню пить кофе. Не проснулась она и когда я снова к ней вошла, минут через двадцать. Меня и это не встревожило, ведь накануне уснула она очень поздно. Я сварила ей геркулес и пришла снова, раздернула шторы и, повернувшись к ней, стала говорить: «Мама, просыпайся, уже одиннадцать часов». Она приоткрыла глаза (или мне это только показалось?) и сразу же вновь опустила веки. Я взяла ее за руку. Рука была теплая, но совсем как неживая, никакого сопротивления моему движению. Другая рука – такая же. И ноги – тоже. А пульс был ровный, не частил и хорошего наполнения. Я взяла в руки ее голову и тут в шее почувствовала какое-то сопротивление, какую-то жизнь. Я побежала на кухню к Андрею и сказала, что у мамы, видимо, обширный двусторонний инсульт. Он стал вызывать врача неотложки. Врач-женщина приехала довольно скоро и подтвердила то, что я сказала. Она предложила взять маму в больницу. – «А зачем? Вы сможете ей помочь?» – «Нет, но я должна вам предложить.» – «Нет, пусть она будет дома». Они сделали ей внутривенно – я совсем не помню, что. Я вообще про этот день, кроме мамы, мало что помню. Потом была другой врач – из маминой поликлиники, она настойчиво предлагала госпитализацию и все говорила: «Ну, зачем вам дома такая больная, зачем вам дома все это, ведь все равно ничего сделать-то нельзя». Говорить с ней было неприятно, трудно. Я боялась сорваться, и говорил с ней Андрей. Он сказал, что мама как жила с нами, так и будет до конца.
А она лежала спокойно, чуть повернув голову в сторону окна, и в какой-то момент на лице у нее появилась улыбка. Я позвала Андрея. Он стоял рядом и тоже смотрел на нее. Что маме виделось, что чувствовала она? Кого встречала она этой светлой, легкой улыбкой? Когда я смотрела на ее лицо, мне казалось, что она наконец-то позабыла все мрачное и непереносимо трудное, что было ее судьбой. Может, возвратилась назад в детство? И не было такой трагической прошедшей жизни, а была и есть какая-то другая, звучащая, как сороковая симфония, которую она только вчера слушала. Потом улыбка постепенно сошла с маминого лица, и на все оставшиеся часы оно стало спокойным, тихим, умиротворенным. Таким, что вот сделала все и теперь – отдыхаю.
К вечеру приехал еще врач – из Академии. Сказал, что теперь все дело в сердце, и такое состояние может продлиться и несколько дней, и несколько часов. Пришла Зоря. Мы поили маму водой с медом. Я ложечкой вливала в рот, а Зоря держала подбородочек. Потом я взяла и прилегла рядом с мамой головой к голове, на ее подушки (их у нее была целая гора). И сказала, что так и буду спать следующую ночь, и гладила ее руку. Мне показалось, при моем прикосновении мамина рука дрогнула. Слышала ли мама меня, чувствовала ли рядом? Часов в десять вечера у нее вдруг выступил пот на лбу – мелкие-мелкие, блестящие капельки. Зоря вытерла их. А лицо все было спокойным и дыхание ровным – никаких признаков хоть малейшей боли или страданий. И внезапно мама открыла глаза. Они смотрели прямо в мои. И она видела меня. И закрыла глаза. А потом два или три резких, отрывочных дыхательных движения. И все!
Все слова, которые я когда-либо читала о легкой смерти, можно повторить. Все будет правильно. И все будет не то. Наверно, всякая смерть, как и всякая жизнь, неповторима и единственна. Я много раз была рядом с умирающими. (Говорят «видела смерть», но это неверные слова, потому что смерть кого бы то ни было, пусть чужого, постороннего, не видишь, а переживаешь, и в эти мгновенья он уже не чужой и не посторонний.) Но никогда это не было так вне страданий, так спокойно и так покойно.
Мама на словах иронично относилась ко мне – врачу, но одновременно абсолютно верила, что я всегда могу ей помочь, всегда избавлю от страданий. И я боялась, что может прийти время, когда она будет мучиться, а я ничего не смогу сделать – только быть рядом. Провидение избавило ее от страданий. И меня от муки бессилия помочь. Мама – первый близкий человек, умерший на моих глазах и на моих руках. Где и как умер папа? Севка – в деревне Мясной Бор? Батаня – в блокадном Ленинграде? Игорь – в далеком Бомбее?
Мама перестала быть, но еще была тут, в своей комнате, на своей кровати, и руки ее были теплые, и волосы пахли ею – мамой. Приехали те люди, которые должны были увезти ее. Они сказали, что им надо простыню, и попросили нас выйти из комнаты. Когда мы вернулись, на полу возле кровати стояли носилки, и на них – маленький белый сверточек. Я вдруг поняла, какой маленькой стала мама. Этот сверточек! И только тоненькая простынка! У меня машинально вырвалось: «Можно дать одеяло?» Но один из них как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Не надо». Андрей хотел поехать с ними. Но тоже: «Не надо». Мы почему-то боялись этих людей. Растерялись. А они быстро подхватили носилки – ноша была легкой – и стали спускаться по лестнице.
Потом уехала Зоря. А мы стали звонить на другую сторону Земли, чтобы найти Таню и Алешу. Еще днем из Нью-Йорка звонил Эд. Я сказала ему, что произошло с мамой ночью. Но мне казалось, что конец не будет таким быстрым, и я просила его не срывать детей с отдыха. Ведь все разъехались на праздники. Сейчас мы снова прозвонились Эду. А потом позвонил Алеша.
Ну вот и Рождество! Уже потом мне кто-то сказал, что в Рождество умирают святые. Не знаю. Может быть.
Отошла ее душа. Осталось тело, и мы должны его похоронить. Прилетели дети. Лица у обоих черные. Глаза ввалились. Наутро привезли гроб с телом. У мамы лицо все такое же спокойное, а вот волосы уже какие-то чужие и лежат как не ее. Цветов много, и запах земли и зелени. Все друзья и родные все. Наверное, это маме бы понравилось. А на улице почему-то была задержка из-за машин. Гробик стоял открытый. И назойливая эта мысль, что холодно – ей.
На кладбище ели стоят под снегом, и снежок такой тихий, мягкий падает. Там как будто и холодно не было. Андрей тихо сказал: «Ты меня любила, и я тебя любил». Я поразилась – это он впервые сказал маме «ты». Таня начала читать «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Алеша все что-то поправлял у мамы. Потом… Потом… И холмик из зелени и цветов. И снег, снежок.
Мамочка! Дома все были такие хорошие, спокойные.
И я все вспоминала, как ты говорила, что не любишь еврейские похороны, потому что с кладбища все расходятся, и каждый уже не с тем, кого проводили. Ты была бы довольна, потому что все были вместе и в твоем доме. Когда хоронили Игоря, то на кладбище ты мне сказала: «Если на кладбище бывает хорошо, то это здесь!» И я все думаю, что если б ты могла увидеть свои похороны, то, наверное, так же сказала бы: «Если похороны бывают хорошими, то это мои».
II
То, что человек обычно не замечаетДни зловещего предзнаменования.Как понемногу стареет его мать.Сэй-Сёнагон (966–1017)Прошло сорок дней, в которые по обычаю нельзя трогать вещи умершей. Я вошла в мамину комнату. Как будто впервые увидела ее. Какая-то мебель. Кровать. Столик. Его привезла Галя, когда мы убирали комнату к приезду мамы. Комод, доставшийся от Юры Федорова, осужденного на 15 лет. Над ним зеркало, подаренное Сарой Юльевной. Таможня его не пропустила, когда они уезжали в Америку. Два небольших платяных шкафа. Мы с Ваней их купили с моего гонорара за Севину книгу. Швейная машинка Зингер. Чтобы ее купить, когда мама вернулась из лагеря, я продала свой единственный военный трофей – фотоаппарат-«лейку». И в углу возле окна секретер – бывший Ремин, Таниного мужа. На его полках книги, традиционно считавшиеся мамиными, а не всех нас. И в нижних ящиках бумаги, фотографии, письма. Можно, если хочется, назвать – архив. Ох, не великое наследство осталось от мамы. Грустно, немного смешно. И хочется плакать.
Я открыла мамин шкаф. Почти неуловимый, бесконечно родной запах. Живой. Эту блузку она совсем недавно надевала. Другая – ее любимая, такая давнишняя, кажется, ровесница Тани. А это вязаное платье Белка ей подшивала. Я тогда почти обиделась, что не меня мама попросила это сделать. Я раздала одежду – кофточки, халатики, белье. И села на полу у секретера. Но, едва достав фотографии и письма, поняла, что это я еще не могу – читать и разбирать мамины бумаги. Не могу. Не пришло время. Я вдруг поняла, что не была готова к тому, что мама так скоро уйдет. Мне казалось, что она еще долго будет с нами. Со мной и Андреем.
Потом я как-то внезапно, остро заболела. Утром встала здоровая. А в два часа дня – как умираю. Сердце то останавливается, то колотится неудержимо. Не могу стоять. Даже сидеть. Потом озноб. Температура за сорок. Нестерпимая боль в ноге. Она от лодыжки и до верха бедра красная, вспухшая. Ни пошевелить, ни дотронуться. Рожа. Через пару дней стало легче, но тянулось все это недели две.
Я болела в маминой комнате, и это как-то приближало меня к ней, мне было уютно быть почти на ее месте. И впервые за это время мама мне приснилась. Она сидела за столом в красной вязаной кофточке поверх какой-то очень нарядной белой блузки, совсем такая, как в последнее время до болезни, а я сидела по другую сторону стола, и мы через стол держались за руки, вернее, я держала в руках ее левую руку и целовала ее – никогда в жизни этого не было, мы просто не могли себе такое представить и позволить – ведь всю жизнь внешне отношения были такими, что это сделать было нельзя. А в последнее время, последние месяцы мне часто хотелось как-то физически приласкать маму, но все стояло это «нельзя». Я боялась напугать, боялась, что какие-то мои действия насторожат и заставят думать, что дела нехороши и состояние ее меня тревожит. Вот и вела себя, как тумба железобетонная. А во сне все было легко – и руку ее целовать, и плакать – все было можно. И самое странное, что утром после этого сна было так светло, будто я действительно побыла с ней.