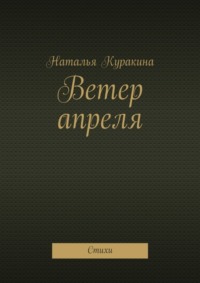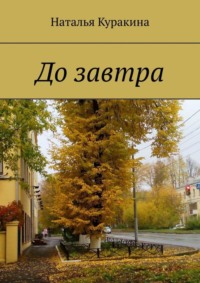Полная версия
Записки с Марса и Венеры. Проза
За ужином я не постеснялась и спросила Нину прямо при всех о том, где сидит Паша. Оказалось, с девочками, развлекает их своими шутками. Сказала вслух: «Я так и знала».
Вова Кинаш спросил: «Вы о чём?»
Но я отмахнулась; «Да…»
О, лучше бы на месте Вовы тогда, в ГУМе, был Паша. Кинаш очень хороший мальчишка, я с ним чувствую себя всё равно как с девчонкой, он заботлив и внимателен, он прекрасно воспитан, но… если б это был Паша!
Вечером к нам в номер пришли все семиклашки.
Моя любимица Лена села на телефон и началось…
Было решено звонить Климову. Она выдала себя за ленинградку, спросила, где живёт собеседник, как у него дела в городе с бензином, она водит машину – что истинная правда… Спросила, говорит ли он по-английски – «Неважно? —Я тоже», попросила о дополнительном звонке через два часа, ей ответили, что к нему придут друзья и подруги.
Она много чего наговорила, мы кругом катались от меха, а Ленка время от времени говорила «Минуточку», зажимала телефонную трубку носовым платком и сама давилась от смеха.
Мы все добросовестно два часа дежурили возле телефона до тех пор, пока не захотели спать. Всё равно на звонки никто не отвечал, девчонки ушли к себе, а мы с Ниной болтали до двух часов ночи. В Третьяковке, помнится, случился один странный эпизод – в каком зале ни оказывались мы с Ниной – везде появлялся Паша, во всех уголках появлялся он, как будто ходил следом, и вдруг Нина сказала: «Пойдём пока лучше вон там посмотрим» – и увела меня. Мне кажется, из-за него…
Двадцать третье марта.На Ваганьково мы бежали, не шли. Я спешила войти до девятого класса и прямиком – к могиле В. Высоцкого… В зелёных сосновых ветках с шишками было четверостишие:
«Ты жил, играл и пел с усмешкой,Любовь российская и рана.Ты в чёрной рамке не уместишься.Тесны тебе людские рамки».Паша снял шапку, стоял слева от простенькой ограды и переписывал эти строки.
А я запомнила. Нина переписала тоже.
Потом были на могиле Сергея Есенина. На обеих могилах положили цветы… На обратном пути снова задержались у могилы Высоцкого… Паша снова снял шапку, подошёл ближе и долго стоял там.
Приехали с Васильевым – сопровождающим, отцом одной из учениц – на ВДНХ. Пока он где-то ходил, все поразошлись. Мы с Ниной тоже пошли – на лавочку.
Лавочки сделаны в ограде так, что, пока не подойдёшь, не увидишь, кто там сидит.
На первой лавочке сидел Климов с девочками. Подходя ко второй, я увидела ноги мальчишек и сказала: «Там сидят, тоже занято».
А Нина сказала: «Курят».
Я шла мимо, делала независимую морду и заставляла себя не смотреть, но не удержалась. Мне резануло глаза. Я ожидала всего, но только не этого. Я никогда не представляла себе его с папиросой в руках – не то чтобы в зубах. А он сидел именно так,
Немного вполоборота, а в руке белела папироса.
Мы с Ниной сели на следующую лавочку, и я поделилась с не своими мыслями. И тут же
Пожалела, что поделилась. Она сказала: «Я тебя не понимаю. Ну и что?»
…А потом, через пять лет, он будет сидеть с папиросой в моей комнате в общежитии, и меня уже не будет шокировать этот факт, но я по-прежнему буду говорить ему об обратном…
«Я довольна, что за эту поездку узнала некоторых людей, но зато разочаровалась в них, и мне так легко и хорошо».
Они все «промелись» мимо, пошли покупать билеты в павильон на круговую кинопанораму, стереокино то есть. Потом Паша сказал, что это даёт право входа на ВДНХ, и мы купили тоже, сели в вагончики, поехали до «Космоса», посмотрели, а потом через всю ВДНХ пешком пришли смотреть кино, ужасно устали, и я так и не поняла – не то мы смотрели ВДНХ, не то эту дурацкую панораму…
После обеда Васильев сказал, что у нас до половины четвёртого есть время на магазины, в сквере возле Кремля назначил встречу. Мы помотались по ЦУМу, потом было решено идти в антропологический музей, но у него был выходной. Вечером мы должны были разбиться на три группы и идти:
1. МХАТ «Агония».
2. Театр имени Ермоловой «Крейцерова соната».
3. Театр оперетты «Пенелопа».
Во МХАТ пошли семиклашки, Нина, Климов и я. Билеты были на шестой ряд партера и во втором ярусе. В спектакле играли Р. Нифонтова и Н. Подгорный.
Всё было чудно, и вот после первого действия мы встретились в антракте с девчонками, и они пожаловались, что им сверху плохо видно, что там какая-то сетка, и мы великодушно согласились пересесть. Я намеревалась сесть рядом с Вовой, но рядом с ним села Нина.
В антракте мы разглядывали стены фойе – там висели фотографии Е. Прокловой и Е. Киндинова. Второе действие было потрясающим – убийство, поцелуи, объятия, а в третьем действии – самоубийство. Затем – занавес.
Перед последним действием в антракте мы сидели и болтали. Я опозорилась. Он спросил:
«Где играет Нифонтова?»
Я ничего не могла ответить.
В метро на обратном пути мы сидели, а Климов стоял рядом, почти так же, как стоял Паша перед девочками из своего класса…
Как мы бежали к искусству! Нас высадили возле ново здания МХАТа. Мы подошли – двери закрыты, вахтёр сказала, что у них выходной. Тогда Вова пошёл расспрашивать про дорогу, а девочки побежали, и мы тоже, пересекая улицы, бежали к театру, по пути спрашивая дорогу, а на заборах висели объявления «БЕГА», и было смешно и весело, и мы успели.
Мы летели в погоне за искусством…
…Ходили фотографироваться возле киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Первый раз исполнилось то, что наметила я. Сказала Лене, что попрошу Климова. Мы все плохо умеем обращаться с фотоаппаратом. Тогда Лена ответила, что попросит сама чтобы он нас сфотографировал. Но я припомнила ей недавний розыгрыш в гостинице. Тот, с телефоном. И сказала: «Нет, я». В результате при выходе из автобуса я попросила его нам помочь. «Или, может быть, тебе куда-нибудь надо?»
Он ответил: «Нет, почему же. Я, в принципе, согласен. Мне как раз идти в ту сторону.
…В автобусе Нина сидела со Светой, впереди – Ленка, а сзади – я с сумкой. Ленка попросила показать листы с цитатами из антропологического музея. Я отдала ей листы,
А Климов заинтересовался: «Что это такое? Дайте посмотреть.»
Ленка: «Возьми и пересядь, тогда посмотришь».
«Мне Наташа подаст.».
Передаю ему листы, а Ленка: «Застегни пуговицы на груди».
Нашла время сказать – это у меня на новом болгарском батнике всегда расстегивались две-три верхних пуговицы.
Я нашлась, что сказать: «Молчи, ленинградская гостья».
Двадцать четвёртое марта.Утром Паша, как только все выходили на крыльцо, сказал Нине:
«Если тебе нужно узнать время, набирай 100. Чтобы больше таких звонков не было, ясно?
Она отвернулась от него. Потом сказала мне: «Вот теперь я сама убедилась в том, какой он. Пока сама не испытаю, никому не поверю.»
…Через четыре года я услышу почти стопроцентно похожую фразу «Пока сама не увидишь своими глазами, никому не верь на слово. Мой тебе совет.» Слова принадлежали Паше. Он говорил их мне и до армии, и после возвращения.
…После завтрака дали полчаса свободного времени. Мы пошли в гостиницу. Нина подошла к прилавку с сувенирами. Там стоял Паша, Я решила подойти. Едва оказалась там, как Нина что-то сказала о матрёшках и тут же купила.
Тут Паша сказал: «У матери день рождения. Не знаю, что выбрать. Она у меня не любит духи. Она любит, когда дарят какой-нибудь сувенир».
«А если ей подарить шкатулочку?»
«Давай посмотрим».
«Вон, смотри, там, где сова на верхней полке, – шкатулка. А вон там – ещё.»
«Давай попросим посмотреть».
Через много лет всё сложится так, что я, увлекаясь собиранием фигурок сов, подарю сову тому самому Вове Кинашу, который так запомнился мне в этой поездке.
И он увезёт её далеко, за полторы тысячи километров…
…Нина звонила Паше – просила подсказать, который час. Вот откуда «маленькая ссора».
…Мы переходим от одного прилавка к другому, и он просит показать эту шкатулку. Она сделана в виде шестиугольника, с коричневым узором. Два рубля тридцать копеек.
«Если бы она у тебя любила духи, можно было бы подарить вот эти»
Я незаметно ушла от прилавка, когда подошла Нина.
Зачем я стояла там? Из-за него.
Нина потом говорила, что он спрашивал у неё о подарке, а когда она ушла, стал спрашивать совета у меня. Зачем я всё разбалтывала ей?
«Наташа, ты не знаешь, нас развезут по магазинам?»
«Я не знаю».
«Нет, конечно. Этот тут Климов слухи распускает. Он у нас вообще такой…
В антропологический всё-таки попали.
Я считала его чуть ли не божеством. А задумывалась ли я о нём как о человеке? Не ищу в нём характер, а вижу только внешность. Может, выдумала разочарование в нём?
Мы с Ниной отправились в аптеку. У входа стоял ОН, с мальчишками. Во мне всё пело. Он говорил со мной! Ему интересно моё мнение о подарке! Кинаш в аптеке – я не хочу на него смотреть. Скорей в автобус! Скорей увидеть его! Я веду себя ужасно. И знаю это за собой.
«А ты поедешь в Кремль или в антропологию?»
«А ты был в Кремле?»
«Нет, не был. А ты была?»
«Да».
Он, которого я обожаю и который ничего не знает об этом, сейчас стоит рядом со мной и для него наш разговор не имеет никакого значения. А для меня! А для меня?
…Возле ВГИКа были люди, мы остановились возле студии и Вова фотографировал нас-Нину, меня, Наташу и Ленку. А потом Ленка – нас с Володей. Всё было бы неплохо, но тут Ленку что-то укололо. Она подбежала к Вове, встала рядом с ним и сказала: «Фотографируйте меня!» Тут все попадали со смеху. И я тоже. Но, едва я посмотрела на него, то увидела, как он смутился и почувствовала, что тут что-то неправильно. С меня разом сошёл весь смех. Я не успела ещё очухаться, как Вова сказал: «Ну ладно, я тут с вами время теряю,» – и быстро ушёл. Вот тут-то я и высказалась о том, что мы поставили его в неудобное положение, и сами опозорились, и теперь надо извиниться. Мы с Ленкой стали спорить о том, кому извиняться. Она вся как-то сникла, шла до самой гостиницы и всё время угрюмо повторяла, что это она виновата и извиняться будет сама.
В вестибюле гостиницы мы сели, и я спросила, как мы обе будем извиняться и что говорить. Можно, например, сказать, что вышла очень некрасивая ситуация.
Тут открылась дверь, и вошёл Климов. Ленка подозвала его и сказала: «Извини, такая ситуация вышла неудобная.» Он ответил, что ничего не заметил и вообще всё забыл и ни на что не собирался обижаться.
Вечером собрались в четыреста двадцатом номере, девчонки показывали тряпки, кто какие купил. Было противно сидеть среди этих барахольщиц.
Перед отъездом решили опять позвонить Климову, но всё попадали на Кулижского. Потом Ленка что-то расхотела говорить с Климовым. Разговор не клеился и между нами.
Вот и Казанский вокзал. Будто не уезжали…
…Дома, как я и ожидала, состоялся разговор с мамой. Я чувствовала себя ничтожеством. Потом я мыла пол в кухне и ревела, а в комнате пел Высоцкий, и от его песен я ревела ещё больше. В голову лезли дурацкие мысли: уеду в Горький, никого не буду видеть, начнётся война. Нас, как специально, в то время часто водили на экскурсии в бомбоубежище…
Потом я позвонила Ленке. Хорошо, что есть телефон!
Я вспомнила, как она говорила мне в поезде: «Ну чего ты, такая большая и такая глупенькая», а я сидела, уткнувшись в её плечо и рыдала. Она отдала мне все свои носовые платки.
Хочу уехать отсюда! Последние каникулы, а я подгоняю время.
Москва и девчонки будут как доброе воспоминание.
Когда мы уезжали из Москвы, Ира Седова просила таблетка от головной боли. Спросили, кому. – «Павлику. У него лоб такой горячий» (неужели потрогала?) Паша прошагал через сумки, перешагивая всё на своём пути, и Светка спросила у него: «Паша, это отчего у тебя голова горячая?» – «От любви», ответил он.
Паше домой тоже позвонили, лежит с температурой.
Хочу в школу – увидеть их всех.
Разве можно стихи сочинить?Разве может назваться стихамиТа незримая тонкая нить,Что так прочно легла между нами?Этот след называется – свет.Для кого-то он резок и ярок,Для кого-то – бесценный подарок,Уходящего памятный след,Уходящего тающий свет.Перетёрлась тончайшая нить.Люди грубы и неосторожны.Разве можно тебя сочинить?Разве можно?..– О! Идея! Завтра какое число?
– Первое.
– Не знаешь, – когда паспорт дают, забирают свидетельство о рождении?
– Нет, не забирают.
Перебирает бумажки в сумке.
– Это очень хорошо… Наташа, где висит мой костюм? Здесь?
– Да.
Открывает шкаф.
– Нет, вот так…
– Пардон…
– Да господи…
Не может справиться с ключом.
– Плохой из меня взломщик.
– Нет, не в ту сторону.
– Помоги мне, пожалуйста.
Но уже справился сам.
Я смотрю, стоя сзади, на его отражение в зеркале. Сохрани его, зеркало. Сохрани!
Открывает чемоданы. Я стою у окна, отвернувшись.
– Ну, а ты что сейчас делаешь?
– Да ничего. На работу неделю не ходим. Учимся с третьего числа.
– Слышал.
– Мама письмо прислала. Пишет – не впадай в меланхолию.
– По поводу чего?
– По поводу всего вообще.
– Правильно. Я. Когда ни прихожу, всегда застаю тебя в таком настроении…
– Да, всегда. А чего радоваться?
– Вот меня в армию берут, я и то не собираюсь плакать.
А я подумала – вот тебе в армию идти, потому у меня такое настроение, а вслух:
– Ну мы же с тобой разные люди.
Подходит к моим книжным полкам.
– Что это за «Тёмная завеса»? Можно посмотреть?
– Конечно.
– А что это?
– О влиянии Америки на советскую молодёжь.
Пока смотрит, я говорю:
– Ты извини меня, что я тебе тогда всякой ерунды наговорила.
Я кроме глупостей ничего говорить не умею…
А он, будто не слышал:
– Цезарь Солодарь автор?
Потом:
– Дрюон… можно посмотреть? Это ты прямо в магазине купила?
– Нет, на макулатуру.
– Это третья книга?
– Нет, седьмая. Да ерунда. Ещё был «Железный король», я его домой отвезла.
– С деканом поругался… А мне на него наплевать, на этого человека.
– Может, не возьмут тебя раньше срока, до ноября. Как будто знаю его день рождения, – но ведь на самом деле знаю же
– Домой всё равно поеду, – хоть на автобусе, хоть на пароходе, хоть самолётом. Постригусь наголо и поеду так для смеха. Всё равно постригут.
– Какой тут смех?
– У меня с родителями полное взаимопонимание. Они всегда говорят – решай как хочешь.
– Это хорошо, когда родители доверяют. Я считаю, у нас тоже взаимопонимание.
– Тебе нравится Хемингуэй? Я, правда, мало что читал. У тебя есть Хемингуэй?
– Есть… нравится… не знаю… я в этом не разбираюсь, я вообще в литературе не разбираюсь.
– Не говори глупости. Нет, правда, тебе нравится Хемингуэй?
«Комсомольская правда» на столе. Статья о группе «Кисс».
– О! «Кисс»!
Читает. Стоит, опершись о стол. Голову наклонил. Смотрю на его руки —они такие же как тогда, когда он вёл заседания нашего клуба в школе. Нет, он сидел тогда за столом. Сейчас он стоит. Но руки…
Чёрный плащ. Тогда его не было.
– Я в этом году дома пересмотрела, что читала, а что нет. Половину из домашней библиотеки не читала.
– Я тоже. Когда дома – не всегда даже охота читать. Ну, я пойду
– Я провожу тебя.
– Что я – маленький, что ли?
– Разве только маленьких провожают?
– Нет, ну я ведь не девушка… (с такой улыбочкой)
– Фу, ну и что же. Не говори глупостей.
Мы выходим в коридор. Тётя Галя спрашивает, придёт ли он ещё до шестого числа и перед отъездом. «А как же?»
Я наклоняюсь чтобы надеть босоножки, рядом с ним. В это мгновение я чувствую себя беззащитной. Мы выходим. Он открывает дверь. На площадке говорит: – Если придёт свидетельство о рождении, то ты свяжись со мной как-нибудь, хорошо? Может, ещё успеет дойти.
Выходим из подъезда. Держит дверь.
– Похолодало в Горьком.
– Да, похолодало.
– Сегодня парня одного в армию провожаем.
– Если бы можно было всё повернуть назад…
– Ты же знаешь, я не люблю такие разговоры – на темы морали.
– Я знаю, но что поделаешь.
– Нет, лучше быть материалистом.
– Давай пройдём здесь…
И мы, не дойдя до светофора, идём немного вбок, чтобы перебежать дорогу.
– Тут ходит восьмая маршрутка?
– Да.
– Вон идёт какая-то…
– Она – налево.
– Я сейчас, если что, побегу.
И – маршрутка. Как нарочно.
– Эта – прямо? Не налево?
– Прямо.
– Ну, я побежал. Пока.
Он бежал – секунды – а я смотрела ему вслед. Когда он вошёл в автобус, я повернулась
И пошла от остановки, чуть ли не бегом.
Тебя не было неделю. Она прошла, как один день. Ну, ничего. Я его ещё увижу. Ещё один раз. А, может, даже провожу на поезд. Он ведь всё равно уедет. Он сказал, стоя у двери: «У меня день рождения 25 ноября, я всё равно не пойду в армию.
– Может, тебя весной возьмут. У меня есть подружка – её знакомого должны были осенью призвать, а получилось – весной.
– Нет, не весной. Это не просто медкомиссия. Все документы будут забирать… А почему у тебя немецко-русский словарь?
– Я же не знала, что будем учить испанский…
Позволь мне часто думать о тебе.Позволь мне сократить твои страданья.Неважны в этой жизни расстоянья.Позволь мне часто думать о тебе.Пускай тебя не посетит печаль.Я к мукам не зову родную душу.Ты слов моих, пожалуйста, не слушай.А если слышишь, то не отвечай.Зачем же всё мной сказано тебе?В последний раз. Уже не повторится.Я не хотела б заново родитьсяЧтобы тебя не повстречать в судьбе.Прости меня. Ведь я тебя не стоюИ это даже большее, чем стыд.Как мне самой себе глаза открыть,Как горькой правдой душу успокоить!Я понимаю: каждому – своё.А лучше стать, наверно, не под силу.Но лишь прощенья я бы попросила.И только. Мне не надо ничего.Родившись, получают право жить.Немногие, пока живут, мудреют.Ещё немногим дан талант любить.Прости меня, любить я не умею.Два года можно делать себя. Для тебя, возможно, это и будет вовремя.
Десятое октября 1983 года.Дни завертелись, как скрипучий голос шарманки. Ехала из института домой и думала, какое сегодня лживое солнце. Подслеповатое, неяркое, словно смотришь в мутное стекло. Ты в общаге один. Это мне сказала Лена Комиссарова. Она жалеет тебя. А я? Я не умею тебе сочувствовать. Я буду ждать. Потому что кто-то ведь должен ждать, когда люди в армии проходят проверку на прочность, на всё человеческое. Кто-то должен ждать, пусть даже «и не друг, и не враг, а так…»
Седьмое октября, пятница.По гороскопу – счастливый день. Я снова знала, что ты придёшь.
Лена пришла чуть раньше, в двенадцать часов. А ты… я же знаю, что ты приходишь вечером, часов в пять.
Лена принесла гороскоп. Мы открыли его и стали читать о Стрельце – твоём созвездии. Звонок. Ты, конечно, ты. Лена пошла открывать. Вернулась. Забежала в комнату. «Кто?» – «ОН!»
Что же она ушла, бросила его в коридоре… Я выбегаю. Он разувается.
– Привет!
– Здравствуй. Ты была вчера в общежитии? Меня там не было. Завтра я еду домой.
– Знаю.
– Тебе сказали?
– Да.
– Меня не было. Мотался по городу.
В комнату вхожу первая., он пропускает.
– А мы тут ерундой занимаемся. Лена гороскоп принесла. Ей хозяйка дала почитать.
Ба! А страница открыта на Стрельце! Наклоняется над столом:
– Стрелец – моё созвездие.
Фу, стыд-то какой.
– Наташа, тебе ничего не надо домой передать?
– Да, вот письмо. Но я его ещё не дописала. Может, тебе потом привезти?
– Как ты успеешь? Я завтра улетаю.
– Во сколько самолёт? В два?
– В десять, утром. Пиши сейчас, пока я буду собираться. Что-то у вас настроение плохое.
– Почему это? Хорошее! С чего ему быть плохому.
Он берёт гороскоп, газеты, садится на диван, немного неловко.
Лена сидит на сундуке, раскрашивает воздушный шарик. Молчит. Я пишу. У меня трясутся руки. Я пишу всё, о чём думаю. О том, что он рядом. Вот он сидит и больше не надо ничего и никого. А я пишу, смотрю в окно время от времени, и мне кажется, что он на меня смотрит.
– А нет у вас этого… гадания по руке?
– Нет. Если бы мы ещё по руке гадали!
Тётя Галя выручает Расспрашивает его: «Ну, чем тебя вчера обрадовали?»
– Всё прекрасно. В артиллерию. Это хорошо. В декабре или весной. Поеду домой недели на две.
– Учиться будешь, когда приедешь? Какой ты лодырь…
– А как же, буду.
Смотрю на него, он – на меня. Тётя Галя ему: «Ты разденься». Он снимает свой чёрный плащ. Тянись, время!
«Ишь, какие девочки деловые – одна рисует, другая пишет». Тётя Галя, умница.
Подняла голову. Улыбается, прячет улыбку в кулак и говорит:
– Да они не деловые.
– Какие мы деловые, Паша… Чай будешь?
«Девочки тебе чаю согреют».
– Нет, спасибо, я только что из столовой.
«Тебе надо, может, собраться? Девочки, выйдите в кухню.»
– Нет, не нужно, я только «дипломат» с собой возьму. Я оставлю у вас все вещи, когда приеду. Будет холодно.
«А то, может, и не увидимся больше».
– Куда же я денусь?
Лену позвала тётя Галя. Когда она вышла, Паша сказал мне каким-то изменившимся голосом;
– А у тебя какое созвездие?
– Близнецы.
– Это какой месяц? Июнь?
– Июнь. Это всё такая ерунда, этот гороскоп. Во что-то надо верить. Как народный календарь.
– 1983 —год Кабана? А… Кабана? А тот был годом Собаки?
– Кажется, Обезьяны.
– А что это обозначает?
– Кто его знает.
– Свадьбы… Ерунда какая-то. Кстати, Телец всегда был созвездием, под которым рождались гении. Гитлер, Ленин… То есть, Ленин, Гитлер… А тут – созвездие Близнецов. А ты, Лена, под каким созвездием?
– Дева, август.
– Что за передача?
– Фильм о Паулсе.
– Какие девицы рядом с ним… Паулс в подтяжках…
– Рабочий момент.
Заговорили о Высоцком. О том, что Паша чуть не купил его диски – один за сорок рублей, другой, французский – за девяносто.
– С собой было только восемьдесят. Я бы купил.
– Нам так не жить.
– А для меня – только Высоцкий. Никого больше не признаю.
– Какие там были песни?
Называет.
– Знаешь?
– Слышала. Нет, для меня – только Дин Рид.
– Дин Рид??
Достаю альбом.
– Это что – всё Дин Рид?
– Я этим занималась в шестом седьмом классе.
И началось…
– Дин Рид в Улан-Удэ, Дин Рид на БАМе… А в Ростове он не был? Страна подлинной демократии… О, да-да-да-да! «Братья по крови»… Кто этот юноша? Дин Рид?
– А что? Он даже очень выглядит…
– Да… не курит! А жену уродину взял, не мог найти покрасивее.
– А чем она тебе не нравится?
И как раз по телевизору – фильм, и Рената Блюме в главной роли.
– Вот, пожалуйста, тощая.
Читает по-немецки.
– А то мы ещё не слышали, давай-давай.
– У него голоса нет. О, в горах… Гойко Митич. Немецкий журнал? Эль кАнтор…
– Эль кантОр…
– Какой проходной балл был в педагогическом? Две мои знакомые поступили. Два года назад – 22 балла.
– Она очень даже ничего в «Марксе».
– Весь фильм испортила. Маркс – красавец мужчина, а она…
– Красавцы тоже бывают…
– «Гармоника»… Почему не гитара, не балалайка?
– Паша, ты что, веселишь нас на целый месяц?
Смеёмся. Как он смеётся! Здесь, у нас, он никогда так не смеялся. При мне он вообще никогда не смеялся.
– Я же не смеюсь над твоим Высоцким, ничего не говорю про него, а ты…
– Обиделась…
Иронично так.
– Хорошо, что испанский, а не немецкий.
– А распределение? С английским? А где работать?
– В «Интуристе». 180 рублей.
Смотрю на него. Он через секунду улыбается. Понял.
– Паша, у меня слов нет.
– А, ну всё понятно. В школе-то 120 рублей. Нет, я никогда не чувствовал в себе педагогического призвания.
– Только в школу… Хоть 90 рублей. Нужно быть там, где не получается. Хотела тебе показать одну статью… в газете.
– Я не люблю такие вещи.
– Вот, всё равно… прочти.
Читает. Смотрю на него. Какой он…
– Я не люблю такие вещи.
Потягивается, как молодой кот.
– Ясно.
– Ой, у меня ключи остались в пиджаке. Я передам с кем-нибудь.
– Я, может, приеду?
– Зачем тебе ездить второй раз в общежитие в такую даль… Я передам с Комиссаровой.
– Хорошо… Так и не переписала из «Огней Болгарии»… А ты читал?
– «В доме Владимира Высоцкого»? Нет ещё. Мне только твоя мама сказала.
– Не люблю Вознесенского. У него трудные стихи.
– А ты читал «Озу»?
– «Узу»?
– «Озу».
– Что-то из древней поэзии?
– Нет. Я вот сейчас тебе найду.
– Нет, не надо.