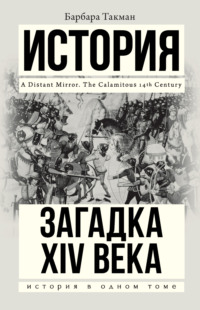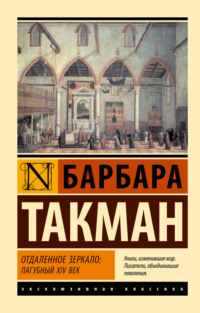Полная версия
Европа перед катастрофой. 1890-1914
За частными обеденными столиками, завешанными ветвями смилакса и окруженными официантами, стоявшими у каждого кресла, джентльмены во фраках и белых галстуках галантно беседовали с дамами, обольщавшими их обнаженными плечами, едва закрытыми облачком тюли, сиянием звезд и диадем в волосах. Разговор велся не обыденный, и тем и другим надлежало продемонстрировать определенный уровень «компетентности и престижа». В оперном театре, ставшем очень модным благодаря стараниям его деятельной патронессы леди де Грей, Нелли Мельба исполняла любовные арии, очаровывая всех своим ангельским сопрано, на пару с обаятельным тенором Яном де Решке. В королевской ложе притягивала одобрительные мужские и завистливые женские взгляды пленительная леди Уорик в алом мефистофельском бархатном платье с просторным вырезом на груди, «всего лишь несколькими бриллиантами» и алым султаном на голове. Мириады лорнетов устремились в сторону леди де Грей, соперницы леди Уорик в состязании на титул самой стильной женщины в Лондоне, дабы оценить ее одеяние. Как-никак, на званых обедах у леди Грей, прозванных «богемами тиар»47, среди гостей бывали сама мадемуазель Мельба, принц Уэльский и до рокового 1895 года – Оскар Уайльд. Каждый вечер у нее превращался в политические дебаты, продолжавшиеся до полуночи, и завершался танцами до утра. Верхнюю строчку в рейтинге лондонского Олимпа богинь занимали герцогиня Девонширская и леди Лондондерри, арбитры общества. Сверкая бриллиантами, они принимали, пожалуй, самую многочисленную череду именитых гостей, и дворецкий без устали объявлял громовым голосом: «его милость…», «его высочество…», «достопочтенный…», «лорд и леди…», «его превосходительство…», а у подъезда лакей в ливрее провожал отъезжавшие кареты.
Общество разделялось на сегменты, неформальные содружества, связанные определенными интересами: они держались особняком, но иногда соприкасались и даже смешивались. Символами «резвого» или «шалопутного» дома Мальборо были сигара и пунш, ганноверская наружность с выпирающим носом и подбородком, коротко подстриженная седая борода и располневшая, но все еще царственная фигура принца Уэльского. Эклектичный, общительный и смертельно уставший от монотонности придворного режима, предписанного вдовой матерью, принц с радостью допускал в свой узкий круг аристократов и посторонних лиц при условии, если они ему показались внешне привлекательными, богатыми или занимательными. В числе таких людей могли быть и американцы, и евреи, и биржевые маклеры, и отдельные фабриканты, путешественники или какие-нибудь сиюминутные знаменитости. Среди его личных друзей было немало выдающихся деятелей, к примеру, адмирал сэр Джон Фишер, и следовало бы осудить как недружественный навет слух о том, будто он не прочел ни одной книги. Действительно, из всех современных писателей он предпочитал Марию Корелли, но проштудировал и первую книгу лейтенанта Уинстона Черчилля «История Малакандской действующей армии» с «превеликим интересом», великодушно отметив в записке автору «в целом превосходность описания и языка»48. Однако в его окружении к интеллектуалам и литераторам относились нелестно и умственные способности не приветствовались, поскольку, согласно леди Уорик, в обществе или по крайней мере в этом его сегменте «не желали утруждать себя размышлениями». Эти люди хотели жить себе в удовольствие, беззаботно, бездумно и экстравагантно. Пришельцы, особенно евреи, воспринимались неприязненно, «не потому, что они были неприятны нам индивидуально, а потому что были слишком умны и сметливы в финансах». Данное обстоятельство имело особое значение, ибо общество желало думать не о том, как зарабатывать деньги, а о том, как их тратить.
Строгими нравами отличались «неподкупные», стародавние, реакционные и особенно дорожившие своей классовой исключительностью семьи, считавшие пошлым и вульгарным окружение принца и лишь себя – столпами общества. Каждое семейство имело уйму бедных сельских родственников, время от времени привозивших в Лондон дочь, созревшую для замужества, но так и продолжавших жить понятиями XVIII века. Другой противоположностью фривольному содружеству принца были «интеллектуалы» или «духи», концентрировавшиеся вокруг Артура Бальфура, племянника лорда Солсбери, одаренного, блистательного и самого популярного человека в Лондоне. Они особенно выделялись образованностью, умом, осознанием интеллектуального превосходства и непомерным самолюбованием. Они получали удовольствие от общения друг с другом подобно тому, как необычайно красивая женщина наслаждается, глядя на себя в зеркало. «Вы любите долго сидеть и копаться в душах друг друга, – сказал как-то лорд Чарльз Бересфорд на званом обеде в 1888 году. – Поэтому я буду называть вас духами»49. С тех пор их так и называли. Сам лорд Чарльз, адмирал и яркий представитель содружества принца Уэльского, не относился к числу «духов», хотя и женился на женщине, любившей надевать тиару с вечерним платьем и изображенной Сарджентом с двойным комплектом бровей 50, поскольку, как объяснял художник, на ней всегда двойные брови – одни натуральные, а другие – подведенные карандашом.
У всех «духов» прекрасно сложились политические карьеры, и почти все они занимали министерские посты в правительстве лорда Солсбери. Самым примечательным из них оказался Джордж Уиндем, написавший книгу о французских поэтах и предисловие к труду Норта о Плутархе, а после службы ставший парламентским секретарем Бальфура, назначенного в 1898 году заместителем военного министра, несмотря на комментарий лорда Солсбери: «Я не люблю поэтов»51. «Духами» были и Джордж Керзон, заместитель министра иностранных дел, а затем вице-король Индии, и Сент-Джон Бродрик, военный министр. Оба были наследниками пэрства и оба тщетно протестовали против неизбежного перевода в палату лордов. Другие «духи» так или иначе имели прямое отношение к семейству Теннант. Альфред Литтелтон, чемпион в крикете, будущий министр по делам колоний, был женат на Лауре Теннант. Лорд Рибблсдейл женился на Шарлотте Теннант. На бракосочетании третьей сестры, Марго, с Асквитом, уходившим с поста министра внутренних дел, присутствовали два бывших премьер-министра Гладстон и лорд Роузбери и два будущих – Бальфур и сам жених. Особенно все обожали Гарри Каста, наследника баронского титула Браунлоу, мыслителя и атлета, остряка, благодаря лишь одной репутации получившего за обеденным столом предложение стать редактором «Пэлл-Мэлл газетт», не имея никакого опыта, согласившегося принять его и исполнявшего эту роль четыре года. Он был подвержен одному серьезному пороку – «фатальному потворству своим слабостям»52 – прежде всего в отношениях с женщинами, которым казался «неудержимо притягательным». В результате его карьера пострадала и многообещающие возможности так и не реализовались.
Аристократическая корпорация была невелика, и ее sine qua non [4] была земля. Чужак мог оказаться в ней только лишь посредством приобретения имения, в котором надлежало жить, и даже этот способ не всегда приводил к нужному результату. Когда Джон Морли, в то время министр, посетил Скибо, где Эндрю Карнеги построил бассейн, и попросил сопровождающего высказать свое мнение 53, тот рассудительно сказал: «Что ж, сэр, по-моему, это стиль парвеню».
В этом, по определению Уинстона Черчилля, «блистательном и могущественном сообществе»54, состоявшем из двухсот знатных семей, поколениями правивших Англией, все знали друг друга или были связаны родственными или иными узами. Осознание превосходства и благоприятные условия жизни стимулировали активное самовоспроизведение титулованного и нетитулованного дворянства: аристократы и помещики, как правило, обзаводились большими семьями, иметь пять или шесть детей считалось нормой, семь или восемь – желательным, девять и даже более – вполне вероятным достижением родителей. У герцога Аберкорна, отца лорда Джорджа Гамильтона, министра в правительстве Солсбери, было шесть сыновей и семь дочерей, 4-й барон Литтелтон, свояк Гладстона и отец Альфреда Литтелтона, воспитывал восемь сыновей и четырех дочерей, герцог Аргайлл, министр по делам Индии в правительстве Гладстона, тоже имел двенадцать детей. В результате бракосочетаний между семьями устанавливались родственные связи. На домашних приемах, на скачках и на охоте, на регате в Каусе, в академии, при дворе или в парламенте нередко можно было встретить троюродного брата, дядю шурина, сестру отчима или племянника тети. Когда премьер-министр формировал правительство, то никто не обвинял его в кумовстве, если некоторые члены кабинета оказывались в родственных связях с ним самим или друг с другом. Лорд Лансдаун, военный министр в кабинете 1895 года, был женат на сестре лорда Джорджа Гамильтона, министра по делам Индии, а дочь Лансдауна вышла замуж за племянника и наследника герцога Девонширского, лорда председателя Тайного совета.
Властители страны, по замечанию одного автора, «близко знали друг друга не только по Вестминстеру»55. Они учились вместе в одном из самых престижных колледжей – Крайст-Черче в Оксфорде или Тринити в Кембридже. В Крайст-Черче получили образование премьер-министры лорды Роузбери и Солсбери, в Тринити – их преемники мистер Бальфур и сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман. Подлинным питомником государственных деятелей, однако, был Баллиоль в Оксфорде, где заслуженный ректор Бенджамин Джоуэтт весь свой недюжинный талант направлял на то, чтобы выпускники, «используя социальный статус, заняли достойное место на государственной службе»56. Наиболее подходящей «средой обитания» для отпрысков из богатых землевладельческих семей считался колледж Крайст-Черч, называвшийся обыкновенно «Хаусом». Когда в нем учились люди, правившие страной в девяностые годы, его деканом был Лидделл, человек исключительно приятной внешности, элегантный, представительный и имевший дочь Алису, которую обожал безызвестный лектор-математик по имени Чарльз Доджсон. Излюбленными занятиями обитателей «Хауса» были охота на лис, бега, крикет и «нескончаемые обеды в компании лучших парней в мире»57.
Когда эти «парни» в старости писали мемуары, они, упоминая Чарльзов, Артуров, Уильямов и Фрэнсисов студенческих лет, указывали в сносках: «впоследствии начальник имперского генштаба», «впоследствии епископ Саутгемптона», «впоследствии спикер палаты или посланник в Афинах». За годы близкого знакомства они хорошо узнали сильные и слабые стороны друг друга и могли в случае необходимости попросить о небольшом одолжении. Когда 23-летний Уинстон Черчилль пожелал участвовать в 1898 году в суданской экспедиции, несмотря на возражения главнокомандующего сэра Герберта Китченера, он добился своей цели без особого труда. Дед Черчилля 7-й герцог Мальборо служил вместе с лордом Солсбери в правительстве Дизраэли, и лорд Солсбери уже сам в роли премьер-министра доброжелательно выслушал просьбу молодого человека и пообещал помочь. Когда потребовалось ускорить процесс принятия решения, Уинстон переговорил с личным секретарем, сэром Шомбергом Макдоннеллом, «с которым я встречался в обществе с малолетства». Уинстон застал его, когда тот одевался, готовясь уехать на званый обед, и объяснил неотложность дела. «Я займусь этим незамедлительно», – сказал галантный секретарь, отменив поездку на важное мероприятие. И в таком ключе решались многие проблемы.
Воспитание они получали одинаковое, но главным его назначением было не научное познание или развитие научного мышления, а оттачивание чувства собственного достоинства, наделявшего человека правом на статус английского джентльмена и непоколебимой верой в то, что этот статус является наивысшим благом. Его обладателю следовало никогда не забывать о своей исключительности. В каждой комнате Итона висела знаменитая картина леди Батлер, изображавшая катастрофу при Маджуба-Хилл, на которой офицер, подняв саблю, шел в атаку с криком “Floreat Etona!” [5] Этот возглас некоторые могли расценить как свидетельство приоритетности отваги, а не стратегии в британской военной кампании. Все же для истинного итонца важнее всего было «впитывать дух естественного превосходства и внушать себе осознание непререкаемого первенства»58. Вооруженные этими принципами, джентльмены гордились своим миром избранных и с жалостью относились к тем, кто к нему не принадлежал. Когда сэру Чарльзу Теннанту и его партнеру, игравшим в гольф, помешал чужак, положив свой мяч в метку, сэр Чарльз спокойно сказал разгневанному напарнику: «Не сердитесь на него. Скорее всего, он не джентльмен, бедняга»59.
Этому магическому образу завидовала и пыталась его имитировать континентальная аристократия (за исключением, может быть, русских дворян, которые любили говорить по-французски и никому не подражали). Немцы женились на англичанках и носили твид и пальто-реглан, а во Франции вся жизнь haut monde [6] проходила вокруг «Жокейского клуба», завсегдатаи которого играли в поло, пили виски, а портреты знати в красных охотничьих камзолах писал Поль Сезар Эллё, французский Сарджент.
Неслучайно аристократов изображали в облике всадников. Лошадь была неотъемлемым атрибутом английского джентльмена. С тех пор как человек оседлал коня, приобретя особую стать, скорость передвижения (и силу удара после изобретения стремян), лошадь отделяла властелина от подвластного ему смерда. Всадник стал символом владычества, и нигде в мире столь свято, как в Англии, лошадь не считалась обязательной принадлежностью класса аристократов. Буцефал удостоверял их избранность и могущество. Когда одному литератору потребовалось описать менталитет дворянства, он прибег к наезднической терминологии: в их представлении общество состояло из «узкого круга аристократов, рожденных в сапогах со шпорами, чтобы ездить, и огромной темной массы простонародья, оседланного и взнузданного, чтобы возить»60.
В 1895 году лошадь все еще оставалась не только повсеместным, неотъемлемым, но и даже более ценным аксессуаром жизнедеятельности высшего общества. Она обеспечивала передвижение, занятия, давала пищу для задушевных бесед, воспламеняла любовь и отвагу, вдохновляла поэтов, помогала поддерживать и укреплять физические и духовные силы. Без нее не существовало бы ни скачек, спорта королей, ни кавалерии, элитных войск любой армии. Один английский патриций с ностальгией вспоминал о своей юности как о времени, когда «я смотрел на жизнь из седла и чувствовал себя на седьмом небе»61.
Посетить в воскресенье галерею «Таттерсоллз» и посмотреть лошадей накануне аукциона в понедельник считалось не менее модным, чем сходить в оперу. Для аристократов было зазорно ездить на скачки в Ньюмаркет, они либо уже владели там домами, либо снимали особняки и жили в них в продолжение всего праздничного мероприятия. Скачками руководили три стюарда из «Жокейского клуба», и никто не имел права оспорить их решения. Три министра в правительстве лорда Солсбери – мистер Генри Чаплин, граф Кадоган и герцог Девонширский побывали в роли стюардов «Жокейского клуба». Надо было обладать немалым состоянием для того, чтобы иметь конюшню и разводить скаковых лошадей. Когда лорд Роузбери, женившийся на дочери Ротшильда, выиграл дерби будучи в 1894 году премьер-министром, он получил поздравительную телеграмму из Америки от Чонси Депью: «Верх блаженства!»62 Господин Депью недооценил потенциал лорда Роузбери: он выиграл дерби дважды – в 1895 и 1905 годах. В 1896 году на скачках пришел первым длинноногий гнедой принца Уэльского Персиммон, выращенный в его собственных конюшнях, в 1900 году победил Даймонд Джубили, брат Персиммона, в третий раз принц Уэльский выиграл дерби в 1909 году уже будучи королем, выпустив на дорожку Майнору. Победа на скачках действующего монарха вошла в историю Эпсома как величайшее событие. Когда королевские пурпур, алый и золотистый цвета появились первыми на Таттенемском повороте, толпа взревела; когда Майнору мчался вровень с соперником к финишу вдоль ограды, болельщики неистово кричали и плакали от радости, когда лошадь короля на целую голову обошла конкурента. Они прорывались через канаты, хлопали короля по спине, пожимали руки, и «даже полицейские, размахивая шлемами, орали до хрипоты»63.
Завоевать известность можно было, следуя и примеру лорда Лондесборо, президента клуба «Фор-ин-хэнд», прозванного «франтом» за элегантность и изысканность одеяний, щегольские выезды и кичившегося своими «великолепными, быстроногими и стильными» росинантами 64. Ездовая лошадь не была лишь предметом гордости владельца, она служила главным транспортным средством, превращаясь иногда в тирана. Когда племянница Чарльза Дарвина в 1900 году приехала проводить лорда Робертса, отправлявшегося в Южную Африку, она увидела корабль, отплывавший без лорда Робертса по причине того, что «карету пришлось вернуть домой, ибо лошади устали»65. Когда ее тетя Сара, миссис Уильям Дарвин, уезжала в Кембридж за покупками, она обычно шла позади кареты даже на небольших подъемах, а если цель ее путешествия находилась на расстоянии более десяти миль, то карета и лошади оставались дома и она нанимала экипаж.
Подлинное удовольствие от верховой езды всадник получал во время охоты с гончими. Уилфрид Скоуэн Блант ощущал в себе «Бога, оседлавшего крылатого коня», когда галопом мчался по склонам холмов за сворой гончих 66. Охота на лис была особенно волнующей, обострявшей томительное предвкушение опасности и удачи: возбужденный лай собак, стенания охотничьих рогов, стремительная лавина красных камзолов джентльменов и черных одеяний дам, перелеты через бугры, загороди, канавы и каменные стенки, переломы, растяжения и даже обмороженные носы, щеки и пальцы зимой. Жить и осознавать себя частью привилегированного и праздного класса было благостно, охота же пробуждала чувства радости и восторга. Приверженцы этого досуга выезжали полевать с гончими пять и даже шесть раз в неделю. О мистере Ноксе, священнике герцога Ратленда, говорили, будто на нем под сутаной всегда были сапоги со шпорами и он «думал о лошадях» даже тогда, когда читал проповедь 67. В семье герцога по темпу утренней молитвы определяли, уезжает мистер Нокс сегодня на охоту или нет.
Мистер Генри Чаплин, самый известный «сквайр» в кабинете лорда Солсбери и архетип английского сельского помещика, в равной мере ответственно исполнял обязанности и парламентского представителя интересов сельского хозяйства, и председателя охотничьего общества «Бланкни хаундз». Во время дебатов или заседаний кабинета он рисовал лошадей на официальных бумагах. Когда ему приходилось в роли министра отвечать на вопросы, специальный поезд ожидал его, чтобы наутро к назначенному времени отвезти на охоту. Состав останавливался где-нибудь между станциями, и мистер Чаплин выходил в алом камзоле и белых бриджах, взбирался по насыпи, где его встречал конюх с лошадьми. Он весил 250 фунтов, с трудом находил подходящую животину и нередко «за один день мог загонять до упаду несколько коней». «Дух захватывало, когда он штурмовал ограду на одном из таких тяжеловесов». Рассказывали такой случай. Охотникам надо было перебраться на другое поле, но путь преграждала огромная и густая живая изгородь с единственным просветом, в котором росло деревце, обнесенное железной клеткой высотой 4 фута 6 дюймов. «Требовался топор или хороший нож. Но тут появился могучий сквайр, мчавшийся со скоростью сорок миль в час и в свой монокль видевший только просвет в изгороди. Ничто не могло остановить его; он проскочил со своей лошадью через прогалину, даже не заметив ни дерева, ни клетки»68.
Немалых денег стоило исполнение обязанностей председателя охотничьего общества, содержание собственной конюшни и своры гончих. Вдобавок ко всему, мистер Чаплин содержал две своры гончих, одновременно устраивал две охоты, разводил скаковых лошадей, имел оленьи охотничьи угодья в Шотландии и очень дорогого друга принца Уэльского. В результате он разорился и потерял семейные усадьбы. Во время своей последней охоты в 1911 году, когда ему уже перевалило за семьдесят, его сбросила лошадь, но когда его везли домой с двумя сломанными ребрами и пробитым легким, он попросил остановиться в ближайшей деревне и отправил телеграмму «кнуту» консерваторов в палате общин о том, что его не будет на вечернем голосовании.
Джордж Уиндем, главный секретарь по делам Ирландии в 1902 году, тоже разрывался между охотой и служебными обязанностями. Правда, в отличие от мистера Чаплина, к его чувству долга примешивались амбиции: он намеревался стать премьер-министром. Кроме того, он писал стихи, тянулся к искусствам и литературе, и ему всю жизнь приходилось делать трудный выбор. Приятель-охотник советовал «не растрачивать жизненные силы на политику и доказать Генри Чаплину, кто наилучшим образом способен реализовать свои возможности». Трудно было не согласиться с ним. Конечно, для джентльменов предпочтительнее собраться всем вместе за завтраком в красных камзолах и с повязанными вокруг шеи фартуками, чтобы ненароком не запачкать белоснежные бриджи, или встретить Рождество за праздничным столом, накрытым для тридцати девяти персон, тридцать из которых все еще в состоянии охотиться на следующий день. «Сегодня мы снова в поле, – описывал свои ощущения Уиндем. – Трое из нас вырвались вперед (на пять корпусов от ближайших наездников). Остальные безнадежно отстали. Мы распластались по всему полю. Аллюр бешеный. Мы палили, не переставая. Гончие заливались восторженным лаем. Никто не смог обогнать нас. Какие моменты… какое наслаждение. Нет ничего более упоительного, чем охота».
Помимо охоты на лис, другим древнейшим занятием для английского конного джентльмена была война. Офицеры-кавалеристы были армейской элитой и выделялись не столько умом или воображением, сколько своим статусом. Они «отличались самоуверенностью»69, писал один бывший кавалерист, в той «наивысшей степени, какая была присуща молодым людям того времени, гордившимся своим классом и страной». В первый же год службы в полку муштра и рутинные падения вниз головой с лошади приучали их пребывать «в состоянии онемения и помраченности сознания, необходимого кавалеристам». Поло, зародившееся в полках, расквартированных в Индии, было их страстью, а кавалерийская атака – квинтэссенцией и верхом совершенства тактики и стратегии. Из их рядов выдвигались военачальники, и они верили в превосходство кавалерийского натиска так же непоколебимо, как в непогрешимость англиканской церкви. Классическим кавалерийским офицером был ладный красавец, близкий друг принца Уэльского, «блиставший и при дворе, и в клубах, и на скачках, и на охоте… и всегда вызывавший особое восхищение и обожание в лондонском обществе», полковник Брабазон из 10-го гусарского полка 70. Рослый, шесть футов, сероглазый, хорошо сложенный гусар-полковник обладал волевым подбородком, закрученными вверх усами, которым позавидовал бы сам кайзер, и аналогичными идеями. Докладывая в 1902 году комитету по имперской обороне об уроках Англо-бурской войны, во время которой он командовал конницей, генерал Брабазон (теперь уже в этом звании) «взволновал присутствующих ярким описанием рукопашных схваток и теориями, доказывавшими эффективность применения кавалерии в военных действиях». Как сообщал затем королю лорд Эшер, особый интерес вызвали замечания генерала по поводу «недоверия к оружию, которым обеспечивается кавалерия, и действенности шоковых налетов конницы, вооруженной томагавками». Приводя свои доводы в «манере, присущей этому галантному офицеру… он столь наглядно изобразил кавалерийскую атаку, что она в воображении членов комитета показалась им абсолютно парализующей противника». Затем они выслушали полковника Дугласа Хейга, впоследствии штабного кавалерийского офицера в Южно-Африканской войне, осудившего предложение отказаться от использования копий и утверждавшего, что самое эффективное средство на поле боя – arme blanche [7], то есть кавалерийская сабля, шашка.
У себя дома, в имении, главной достопримечательности всей округи, где его «хаус» казался очень большим, а деревня маленькой, в окружении крестьян, арендаторов, коров и овец, на земле, которой его семья поколениями владела, возделывая, сдавая в аренду и получая гарантированный доход, английский патриций вел привычный и привольный образ жизни, нисколько не сомневаясь в его естественной предопределенности. Здесь он обитал с детства в полном единении с природой среди деревьев, над которыми синело небо или скучивались облака, слушал по утрам пение птиц и прогуливался в лесу, где всегда можно было повстречать оленя. «Мы ни в чем не нуждались, когда росли», – писала леди Франс Бальфур. Величественные дворцы – Бленхейм герцогов Мальборо, Чатсуорт – герцогов Девонширских, Уилтон – графов Пембрук, Уорик – графов Уорик, Ноул – семейства Саквиллов, Хатфилд – Солсбери – имели по триста – четыреста комнат, до сотни каминов и крыши, измерявшиеся акрами. Другие чертоги были, возможно, менее грандиозные, но в них семьи жили с более давних времен: например, усадьба Ренишоу принадлежала Ситуэллам по крайней мере семь столетий. Владельцы и больших и малых поместий непрестанно их усовершенствовали, перестраивали особняки, преобразовывали ландшафты. Они срезали или, наоборот, наращивали холмы, рыли пруды и озера, изменяли русла речек и ручьев, прорубали в лесах аллеи, завершая их беседками и павильонами для создания перспективы.