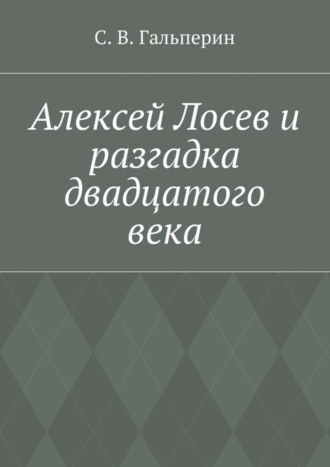
Полная версия
Алексей Лосев и разгадка двадцатого века
Рациональное знание разрушает мистическое единство ума и сердца, и уже поэтому противостоит вере в Бога. Но оно одновременно способно породить новую веру – веру в мир, лишённый Бога. Именно об этом говорит Достоевский устами князя Мышкина: «…Наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак не замечая, что уверовали в нуль…». И возникает она, по его мнению, «из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу». Он совершенно прав. Действительно, ум как созерцательная способность человека насыщается естественнонаучными знаниями с их устойчивым логико-понятийным каркасом, неоспоримыми, экспериментально подтверждаемыми доказательствами; широкими возможностями быть применёнными на практике. Последнее оказывается самым важным для сердца – деятельностной способности человека, у которого появляется возможность делать реальное дело. Его сердце вновь становится зрячим, а ум – сильным. Но теперь открывшийся ему мир лишён Бога, он оказывается не храмом, а всего лишь мастерской, в котором мастером высшей квалификации становится не кто иной, как сам человек. Что же касается установок полностью рационализованного вероучения, то они действительно «ни уму, ни сердцу». Человек делает дело – и этого вполне достаточно. Подтверждение тому – тургеневский «нигилист» Базаров: обходясь без Бога, он остаётся неутомимым тружеником, пытаясь выведать секреты природы и исправлять её огрехи, врачуя людские физические недуги. А далее открывается путь к человекобожию, к миру абсолютного человеческого произвола, в котором всё дозволено, всё оправдано.
Приведённое описание вовсе не означает, что русские мальчики – лицеисты, гимназисты, кадеты, по мере своего просвещения сплошь превращались в убеждённых богоборцев, либо всю жизнь потом страдали, не в силах преодолеть безверие, как описывает Тютчев. Саму духовную элиту России составляли как раз высокообразованные и притом глубоко верующие в Бога люди. И никого из них не миновала беспокойная пора отрочества, когда каждый неизбежно сам превращался в арену жестоких схваток между собственными «умом» и «сердцем», которые, конечно, могли протекать по-разному. Так, у Вл. Соловьёва, которого Лосев считал своим первым учителем философии, они вспыхивали неоднократно, принимая острый и затяжной характер, заставляя его совершать шокировавшие окружающих, порой просто кощунственные поступки.
Что же касается самого Лосева, то, как показывают и факты его биографии, и собственные воспоминания, возникающие противоречия не только не поколебали его веру в Бога, но, наоборот, побудили выступить в её защиту. Во время летних каникул, перейдя в шестой класс гимназии, он сочиняет статью: «Атеизм, его происхождение и влияние на науку и жизнь», поместив её в собственноручно сшитую небольшую тетрадь. Здесь атеизм определяется автором как явление «противоестественное, болезненное и силой стремящееся переделать на своих уродливых началах человеческую науку и жизнь», и атеистам всех веков и всех мастей достаётся по первое число. «Мы будем бороться», – заявляет шестнадцатилетний Алёша Лосев, только ещё готовясь к главному своему жизненному выбору. И едва став студентом философского отделения историко-филологического факультета Московского Императорского университета, он делает откровенное признание: «Не появись этой страшной бездны между наукой и религией, я никогда бы не оставил астрономии и физики, и не променял бы их на эти бесконечные философские изыскания». Более того, он уже, оказывается, определил своё генеральное направление: «Начал одно большое сочинение по собственному почину: „Высший синтез как счастье и вéдение“, где доказываю необходимость примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности».
Сохранились лишь отдельные фрагменты этой юношеской, не лишённой романтического налёта работы, но даже приведённое авторское разъяснение задуманного её содержания позволяет сделать далеко идущие выводы. Во-первых, речь в ней будет идти о примирении как конечном результате (обратите внимание, не о подчинении, а именно, о примирении); во-вторых, о научном мировоззрении как единственно приемлемом критерии истины; в-третьих, о соединении областей психической жизни человека, которые в совокупности представляют собой целостную духовную культуру. К этому необходимо добавить, что автор находит объединяющие эти области начала:
«– общий источник: потребность совершенствования, жажда идеала, стремление к Творцу, любовь к Нему;
– одинаковые цели: постигновение трёх абсолютов: Бога, мира и человека; достижение известного идеала, нравственного и умственного (известного идеала, т.е. установленного Высшей Мудростью для данного фазиса развития мира и человека)».
Всё это означает, что восемнадцатилетний студент обладает замечательным философским чутьём, поскольку делает собственную заявку на преодоление секулярности в общественном сознании. Конечно, это требует решения задачи цельного знания, поставленной славянофилом Иваном Киреевским, и прямого осознания Всеединства, начатого Вл. Соловьёвым. Но сама проблема секулярности гораздо глубже.
В середине ХХ века о. Василий Зеньковский в своей фундаментальной «Истории русской философии» (доступной читателю в России она стала лишь в конце века) заявил, что ключ к диалектике всей русской философии следует искать именно в проблеме секулярности. Она не имеет в России столь глубоких корней, как на Западе, и явила себя здесь достаточно ощутимо как раз в плодах европейского Просвещения. Секуляризация – обмирщение целостной, религиозной в своей основе культуры, сопровождающееся её разделением на отдельные обособляемые друг от друга области. Здесь мирское, преходящее, врéменное отделяется от божественного, сакрального, вечного (именно отцы Церкви отождествили меру времени seculum – «столетие» с осознанием мирского существования).
Однозначного вывода о причинах секуляризации христианской культуры не существует. Заслуживает внимания мнение Бердяева, который считает, что она стала неизбежной в западнохристианском мире в конце Средневековья, когда выявилась неспособность человека построить Царство Божие лишь на духовной основе, отвергая своё природное начало, признаваемое падшим. Тогда творческие силы человека были выпущены на свободу, вследствие чего и все сферы общественной и культурной жизни перестали быть связанными, превратились в расчленённые и автономные. Но это же одновременно означало и поворот от духовного ядра во внешнее культурное выражение, переход от Божьего к человеческому.
Что же мы находим у Лосева? На протяжении всей своей творческой деятельности – от первой приведённой выше «заявки» до последних откровенных бесед на исходе жизни – он со всех сторон анализирует именно этот драматический переход от «Божьего к человеческому» – путь человека от Абсолютной Личности к себе самому как полностью абсолютизированной личности. В одном из исторических экскурсов Лосев обращается к наиболее мощному направлению, где этот переход получил многостороннее философское освещение. Это – германский имманентизм XVIII – XIX вв., основы которого закладывались задолго до этого мистикой Экхарта (XIIIв.) и богоборчеством Лютера (XVIв.). Превращение трансцендентного, то есть находящегося вне пределов суждения, за границей человеческого сознания и познания, в имманентное – пребывающее в сознании человека, соизмеримое с ним, означало вырождение христианского миропостижения, чья основа – неисповедимая тайна. Лосев перечисляет главные проявления имманентизма, выраженные в учениях выдающихся немецких философов об Абсолютном. Оно выступает у них, то как мистическая глубина индивидуальной души, то как предмет романтических чувств и исканий, то как рациональная схема логически построенных законов, то как произведение искусства, то как бессмысленная, но вечно жаждущая жизни мировая воля, то как возвышенная и моральная проповедь некоего мирового «Я». Но за всем этим стоит одно и то же: абсолют человеческой личности. Не удивительно, что такой идеализм протестантского толка позволил столь ценимому классиками марксизма-ленинизма материалисту Фейербаху поставить с ног на голову саму историю человеческой мысли, заявив: «Человек не понимает и не выносит собственной глубины и раскалывает поэтому своё существо на „Я“ без „Не-я“, которое он называет Богом, и „Не-я“ без „Я“, которое он называет природой».
Наконец, сама первичная интуиция текучести бытия, присущая основаниям мировых культур, выродилась уже в XX веке в экзистенциализм, абсолютизирующий само существование человека. Насколько далеко зашло это вырождение, видно из вывода писателя-экзистенциалиста Альбера Камю: «Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии». Дальше, как говорится, идти некуда. Но всё это – не что иное, как итог многочисленных попыток решения секулярности в западной культуре, где абсолютизация человеческой личности означала полный разрыв с христианским благовестием. Лосевские же труды, как и сама его жизнь – яркое свидетельство верности ему.
У истоков лосевского мировоззрения
Как подступиться к Лосеву? Перечитать подряд изданные за последние годы его труды? Собрать всё, что написано о нём самом? Встретиться с теми, кому посчастливилось лично с ним общаться? Конечно, можно попытаться сделать всё это… А что, если начать совсем с другого? Совершенно ясно, что о созидательной силе творчества Лосева можно говорить бесконечно. К нему как нельзя полнее применим вывод Бердяева о творчестве как продолжении миротворения. Лосев действительно построил целое здание – от фундамента до крыши. Но при этом «бесконечные философские изыскания», о которых упоминал 18-летний юноша, к завершению его земного пути выразились всего в трех словах. Мы знаем об этом благодаря горячему почитателю Алексея Федоровича журналисту Юрию Ростовцеву. На его вопрос: «В чём ваша созидательная идея как философа?» последовал ответ: «Это православно понимаемый неоплатонизм».
Лосевский ответ, говоря современным языком, обладает колоссальной информационной свёрнутостью. В нём скрыт, несомненно, некий плодотворный синтез философских принципов поздней античности с вероучительными основами ортодоксального христианства. Выходит, чтобы развернуть ответ, то есть понять его, необходимо для начала перечитать гору историко-философской и богословской литературы? Ничего подобного: сам Лосев поможет избежать этого. Будучи не только гениальным мыслителем, но и прекрасным просветителем-популяризатором, он разработал собственный метод, который, по его же словам, сводится к следующему: «Пока я не сумел выразить сложнейшую философскую систему в одной фразе, до тех пор я считаю изучение данной системы недостаточным». Следуя этому прекрасному правилу, Лосев называет неоплатонизм учением о Едином, о Мировом Уме, о Мировой Душе и о Космосе. Неоплатонизм составил заключительную эпоху античной философии (III – VIIIвв.) и своим историческим названием обязан тому, что завершил учение Платона, жившего в IV в. до Р.Х., об идеях, хотя одним Платоном дело не ограничилось.
Поскольку система образования в советский период ни Платона, ни его последователей не жаловала как древнейших апологетов идеализма, несколько поколений россиян, включая ныне здравствующие, имеют о них, мягко говоря, весьма смутное представление. Лосев же не только отдаёт предпочтение Платону, обнаруживая у него начала диалектики, но и детально прослеживает развитие платоновской мысли; то же совершает он и по отношению к неоплатоникам. Более того, он подвергает тщательному анализу их многочисленных комментаторов и толкователей, высвобождая из-под многовековых наслоений-заблуждений чистую и ясную мысль, подобно талантливому реставратору древних картин, являющему миру их замечательную первозданность.
Послушайте, что у него получается! «Всего многотрудного и бесконечно разнообразного Платона я выражаю в одной фразе: вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит, то есть вообще не является вещественной». Разъяснения этой фразы оказываются, до смешного, простыми: идея (ΐδέα), по-гречески, означает «вид», «наружность», имея, таким образом, признаки тела. Так что платоновская «идея» действительно видится, но не физическим зрением, а умственным. Древние греки вообще считали, что глазами можно мыслить, и целиком оторванное для нас от чувств понятие «теория» для них означало «созерцание», точнее, то, что мы называем «вúдением».
В идее Платона заключена смысловая полнота вещи, то есть ответ на вопрос: «Что это такое?» Но это ещё не всё. Для идеи не существует течения времени, которое старит и разрушает вещь. Но ведь жизнь вещи – непрерывное изменение (становление); стало быть, платоновская идея вещи, разъясняет Лосев, оказывается хранительницей её жизненной силы, остаётся её вечной и порождающей моделью. Так что в платонизме идея действительна сама по себе, но так как она невещественна, то существует вне времени и вне пространства. Вы считаете это совершенно неправдоподобным? Но разве не точно то же относится, скажем, к сфере чисел, включая все операции с ними? Подумайте… Так что платоновский мир идей по праву оказывается в вечности и, конечно, имеет собственное (внепространственное) место – Платон называет его «идея идей».
Но миром идей великий философ не ограничивается. Платон первым в античности выдвигает категорию Единого, в котором воплощено абсолютное единство всего на свете. Лосев и тут старается облегчить нам с вами понимание. Всякая вещь, разъясняет он, имеет множество свойств и признаков, но всегда выше их. Дерево мы сперва понимаем как дерево, а лишь потом получаем возможность приписывать ему те или иные признаки. Но ведь то же относится и к миру в целом. Он выше всяких признаков и свойств, выше всяких идей и, по Платону, выше всего отдельного, будь то бытие, сущность, познание. Познавать – значит сравнивать. Но поскольку миру уже всё приписано, сравнивать его просто не с чем. Стало быть, он оказывается тем, что превыше всего. Этому и соответствует непознаваемое Единое, которое, впрочем, так и осталось у Платона лишь в виде категории.
Вот теперь можно вместе с Лосевым перейти и непосредственно к неоплатонизму. Его основатель Плотин через шесть столетий после Платона разработал учение о Едином как охвате всего существующего в одной неделимой точке, которая предшествует всякому бытию. Оно может восприниматься человеком лишь в нерасчленённо-восторженном состоянии – сверхумном экстазе. По Плотину, приблизиться к Единому (созерцать его) можно, если «самому отрешиться от чувственных предметов, которые являются последними из всех и перейти к предметам первичным; нужно быть свободным от всех пороков, ибо мы стремимся к Благу; нужно вернуться к своему внутреннему началу, и вместо того, чтобы быть множественным, стать единым существом». Свой экстаз Плотин определяет как απλώσις («упрощение»), в котором бытие сводится к абсолютной простоте.
Мировой Ум появился у неоплатоников благодаря Аристотелю, который платоновский мир идей («идею идей») назвал Нус (νόος – «ум»). Этот Нус мыслит сам себя и является самосознанием, то есть превращается в особое надкосмическое сознание. Но это, конечно, не всё. Платон, как вы помните, считал, что идея вещи, во-первых, существует; во-вторых, означает смысл вещи. Аристотель вслед за ним стал различать в своём Нусе бытийную (материальную) сторону и смысловую (идеальную). Получилось учение об умственной материи, которое неоплатоники также использовали. Но особо почётное место у них заняло расширение Аристотелем платоновского мира идей: он стал мыслить идеи не сами по себе, а в их обращённости к миру, как бы их заряженности миром. Это значит, что мир идей сам по себе является заданностью всяких материальных оформлений – потенцией, а в своей обращённости к миру – их осуществлением, названным Аристотелем энергией.
Завершающим для формирования целостного учения неоплатоников стало использование ими взглядов стоиков, представлявших философскую школу с семисотлетней историей. Ещё у Платона различалось бытие и становление: бытие существует само по себе, а становление – во всякий момент времени (всякая вещь непрерывно изменяется – она становится). В физических образах этот процесс нашел выражение у стоиков, создавших учение о первоогне и его эманации, то есть исхождении от высших сфер бытия к низшим с постепенным затуханием (душа человека согласно стоикам была не чем иным, как тёплым дыханием).
Лосев детально рассматривает то, что сделали далее неоплатоники. Они разделили эманацию на два потока: один, очищенный от всяких признаков материального начала, идущий от Единого, стал чисто смысловым становлением Мирового Ума; второй – материальная эманация стоиков – превратился в движущуюся идею, начало движения вообще для всех вещей – Мировую Душу. Она, как и Мировой Ум, имеет две стороны: одной она обращена к миру, другой – отвращена от него. В целом Мировая душа – связующее звено между сверхчувственным и чувственным миром. Результатом её вечной подвижности и является Космос. Сам он со всем своим содержимым – отражение и воплощение прежде всего Мировой Души, затем Мирового Ума и наконец Единого. Таким образом мироздание неоплатоников представляет собой строго иерархическую систему (от высшего к низшему), в которой гармонично сочетаются покой и движение, вещественное и смысловое (материальное и идеальное). Круг со сходящимися в центре лучами, который последний из неоплатоников-теоретиков Прокл назвал образом ума – простейший и исчерпывающий символ неоплатонизма.
Итак, Лосев приобщил нас к завершавшему тысячелетнюю эпоху учению. А далее он выявляет то, что определило его судьбу: «…Уже христианство стало государственной религией, уже гремели Вселенские соборы, а небольшая группа языческих философов создавала свою концепцию античности. Но дни языческой античности были сочтены, и эти же самые мыслители, так глубоко понимавшие сущность античной философии, всё-таки в конце концов пришли к тому, что всё это пустыня. Почему? Нет никого, раз нет личности и есть только что. Космос – это что, а не кто… Так кончились те светлые дни, когда человек молился на звёзды, возводил себя к звёздам и не чувствовал своей собственной личности».
Общеизвестно, что представлением о личностном начале человечество обязано ортодоксальному христианскому мировосприятию, основанному на вере в исторически конкретного Богочеловека, Которого Его человеческая природа роднит со всем человечеством, создавая тем самым мистическую общность – Богочеловечество. Вместе с тем Он остаётся извечно по Своей божественной природе Сыном Божьим, познаваемым, как нераздельное с Богом-Отцом Его Слово (Логос), стало быть, обращённой, как и Отец, ко всему сущему и причастному Ему Абсолютной Личностью – живым воплощением нерушимой суверенности и безграничной самоосуществлённости; идеалом Истины, Добра, Красоты.
Неоплатоники этого просто не могли ни почувствовать, ни осмыслить. Будучи непримиримыми врагами новой восходящей религии, они становились авторами самых злобных антихристианских трактатов. Для них Единое, объединявшее как всё разумное, так и всё неразумное, являлось одновременно и Благом, но оно никак не могло быть персонифицировано. «Для настоящего и правильного неоплатоника, – пишет Лосев, – христианство было просто атеизмом, поскольку христиане признавали какого-то непознаваемого Бога, превосходящего собою всё мироздание и в то же время оказавшегося простым человеком в условиях максимального человеческого унижения».
Непонятным, и просто несостоятельным Божественное личностное начало остаётся и для современной науки, существующей в условиях абсолютизации человеческой личности, которая уже давно сформировала само мировоззрение, что называется, «под себя». Так что до настоящего времени психологи, социологи и прочие «обществоведы» дружно сводят личность к некоему социальному понятию, определяя её как системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности, или что-то иное в том же духе. Но здесь нет исторической правды. Личность вовсе не продукт общественных отношений, не объект социологических изысканий и психологических тестов, а Бог, являющийся в течение двух тысячелетий воплощением и выразителем вселенского начала, мировой гармонии в одной из величайших мировых религий. Притом, это не некий объективный Абсолют, не всеобъемлющий Дух – понятие, выведенное философами-протестантами в период сумерек христианства, а Бог живой, воплощённый в человеческом облике, в конкретном историческом событии-предании.
Богословие Восточной Церкви явило миру тайну неисчерпаемости личности, использовав для её выражения греческое «ипостась» – то, что существует. Непознаваемая, сверхсущностная природа божества обнаруживает себя в своих исхождениях, в своих проявлениях. Именно в этих проявлениях и следует понимать Три Божественные Ипостаси, из которых первая познаётся как единство, начало и источник; вторая – как раздельная множественность и третья – как благодатное исхождение.
Вот мы и вышли с вами к тому месту, где происходит стык античного учения с троическим откровением христианства. Лосев не только обозначает этот стык, но и надёжно закрепляет его. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать всего пятнадцать страниц, составляющих раздел «Переход от античности к средневековью в тринитарной проблеме раннего христианства» из VIII (заключительного) тома его монументальной «Истории античной эстетики», вышедшего в свет уже после кончины автора. За бесстрастным изложением вы наверняка почувствуете тщательно скрываемую им от постороннего глаза неизбывную веру.
О судьбе, об истории, о Божьем Промысле
Время от времени на каналах ТВ появляется документальный фильм Виктора Косаковского «Лосев», и вы имеете возможность услышать, что говорил накануне своего ухода разгадавший нынешний век философ. Впрочем, в фильм вошла лишь малая толика того, что записал на магнитофонных кассетах участвовавший в съёмках Юрий Ростовцев, неизменный его собеседник. Прислушаемся к озвученным мыслям Алексея Фёдоровича о судьбе. Он разъясняет своему невидимому визави, что попытка понять мир неизбежно приводит к высшему началу, которое всем движет. А невозможность знать результаты самогó этого движения приводит к понятию судьбы. Весь вопрос в том, как относиться к такой непознаваемости: считать её просто неполной информированностью человека, или видеть за ней проявление непостижимой для него воли?
Позиция Лосева в этом вопросе ясна и недвусмысленна: «Я считаю, что раз есть мир, то существует он лишь потому, что есть цельность и полнота мироздания. А цельность и полнота мироздания – это Бог. Отсюда вывод: всё, что творится, есть воля Божия. Почему? А потому что в мире, так называемом, ничего, кроме Бога, и нет. Бог, таким образом, есть предельное обобщение мировых явлений, не больше того. Так что действительно каждый, и большой, и крупный момент в созидании мира, в выдвижении мира, несомненно, в конце концов, есть воля Божья, отчасти нами познаваемая. Но не совсем, потому что воля Божья относится ко всей бесконечности… Поэтому получается так, что человек и на высоте математики находящийся, и на высоте религиозной находящийся, всё-таки не может в абсолютном смысле предсказать то или иное явление. Так что в смысле неожиданности оно всегда момент судьбы в себе содержит…. Бог есть в конце концов Судьба для каждого человека и для каждой вещи. Почему? Потому что ты не знаешь намерений Божьих, плана управления миром ты не имеешь».
Посвятив десятки лет изучению античного миросозерцания, Лосев досконально знал и глубоко понимал всю богатейшую мифологию судьбы, проявленную в сочетании фатализма и героизма, присущего древним грекам. Но лично для него проблема судьбы определялась противоречиями, которые вскрывает христианское вероучение. Человек – существо тварное, и у него есть множество свойств, относящихся непосредственно к его тварной природе. Одно из главных природных свойств – собственная воля: стремление к самоутверждению, к приобретению и обладанию, к абсолютной независимости. Особенности проявления воли связаны с индивидуальными природными наклонностями, включая интеллектуальные способности. В соответствии с поставленными человеком целями воля может быть и доброй и злой. В непосредственном следовании своим природным побуждениям человек проявляет себя как индивид, но не как личность.



