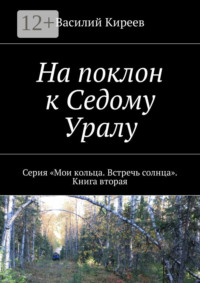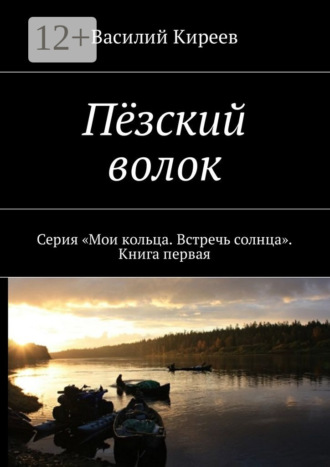
Полная версия
Пёзский волок. Серия «Мои кольца. Встречь солнца». Книга первая

Лодки на Пёзе
Та, что справа – и есть на ближайшую неделю наш основной транспорт.
Самое время о лодках, да? Вообще-то, искусство делать лодки – одно из главнейших и древнейших в этих местах. Лодки тут шьют. Вернее, в старые времена шили. В самом прямом смысле шили – скрепляли доски еловым корнем, как верёвкой. Причём, на гвозди перешли относительно недавно – шитая лодка служила в разы дольше той, что на гвоздях. И сейчас остались мастера, способные сшить лодку. Про одного такого мастера зашёл и у нас как-то разговор с Окуловым:
– Виктором его зовут. Он ещё на Соловках работал….
– … в Морском музее, на Сельдяном мысе, – подхватил я.
Но это не мир тесен, я перестал употреблять эту расхожую поговорку. Нет, тут люди знают всё и обо всех, особенно, о людях, по-настоящему уважаемых. Но к лодкам. Понятие «шить» лодки осталось в ходу, оно относится и к лодкам, построенным из досок посредством гвоздей. И пусть, что не еловым корнем. И пусть в основе конструкции – доски, а не «курица» (ой, кокора, или лучше, ко́рга) – заготовка из части ствола дерева, переходящей в корень и задающая, тем самым, изгиб носовой части…
В каждом регионе лодки делают по-своему, приноравливаясь к тем условиям, по которым ей предстоит ходить. Вот лодка жителя нижней Пёзы (хм, вот ещё тема – жителей Пёзы знаете, как зовут? Пе́зяна… «Не народ, а пезяна, не товар – железина», расскажу…) – несколько короче, до 8 метров, чтобы можно было выходить на ней дальше, в Мезень и Мезенскую губу, подстраиваясь под беломорскую волну. У цилёмы (у жителей Цильмы, мы туда же идём, да?) лодки длиннее, метров до 12, волна в Печоре другая. Да и много-много разных других особенностей, связанных с необходимостью проходить песчаные косы (кошки) и мелкокаменистые перекаты (а́решник), пороги, а в более раннее время – и переволакивать. Да и перевозить товар, много товара… Вот, в «нашу» лодку тонна груза запросто войдёт, а в цилемскую – все полторы. Это – основной коммерческий транспорт в этих местах и сейчас.
Но у Пёзы есть ещё одна удивительная особенность, сделавшая местные лодки ни на что не похожими. Здесь находятся так называемые «поля падения» – зоны, куда падают отделяющиеся части запускаемых с космодрома Плесецк космических ракет. На Пёзе таких зон аж две – «Бычье» и «Мосеево». Тут можно покопать открытую литературу, скажем, Википедию (для пытливых читателей – можно официальный сайт космодрома ещё открыть) и выкопать, что в зону «Бычье» раньше падали боковые блоки ракетоносителей «Союз», но в связи с уменьшением количества запусков с 1977 года туда ничего не упало. Ну, в смысле, район «Бычье» с 1977 года не используется. А вот в район «Мосеево» падало что-то при запусках ракет «Циклон». Я умышленно в этой части не буду анализировать экологическую составляющую, а то скачусь к обсуждению событий, превративших самое красивое и богатое рыбой, описанное Шренком, озеро Сюрзи в верховьях Рочуги, в «озеро смерти». Объяснений тут, впрочем, два – либо мистика, либо что-то упало (не рассматривать же всерьёз некачественный алкоголь: если этим и можно объяснить массовое отравление там рыбаков, то что тогда не так с самой рыбой?)9 … Просто «Союзы» в терминологии местных жителей – «керосинки», летающие на традиционном топливе, а вот «Циклон» уже использует для своих ступеней несимметричный диметилгидразин, называемый в простонародье гептилом. Впрочем, трудно сказать, чем лучше получить по голове с небес, керосиновым «Союзом», гептиловым «Циклоном» или даже боевым «Тополем». Последние падают где-то в районе Пинеги – Сии. М-да. Районов падения, оказывается, много, вот, кстати, и «Усть-Цильма», – тоже действующий такой район. Правда, мне не удалось отыскать, что именно туда падает. Но Толя Попов, наш цилемский проводник, пожаловался как-то, что нашёл в тайге какую-то хренотень с проводами, даже с друганом пару дней пытались её разобрать, жили в ней, укрывшись от дождя. С тех пор оба болеют – то печень забарахлит, а то нападёт что-то – песню часа в 3 утра вдруг как запоют… Но именно на Пёзе космическое влияние заметно невооруженным глазом – три четверти, если не пять шестых, всех лодок тут сделаны из упавших частей ракет. На наш опасливый вопрос: «А не страшно словить-подхватить чего-нибудь космического в организм?», местные жители уверенно отвечают: «Да что мы, керосинку, что ли не отличим? А за чем-нибудь страшным тут ракетчики сами приходят». А более продвинутые вообще поясняют, что это не какие-то там обломки, а «обтекатели и элементы силового конуса боковых ракетных блоков». Так что зря клевещут злопыхатели, что космос – лишняя трата денег. В нашей стране космическая промышленность неотъемлемой частью вошла в жизнь далёких Пёзских деревень; падая буквально с неба, космические технологии продолжают свою работу на благо рыбаков и крестьян далёкой Пёзы, заменив морально устаревшее дерево, но сохранив веками отработанные вид и форму речных судов пезян. Впрочем, и космические технологии уже в прошлом – «Бычье» для «Союзов» не используется с конца 70-х, а последний «Циклон» улетел в 2004-м. Вот и вспоминают жители снова, как лодки-то из дерева шить. (Уже после похода я рассказывал о нём в Шотовой, на Пинеге. Когда дошла речь до лодок, мужики-слушатели спросили — шиту́ха, чтоль?)
Пока я тут про космодром «заливал», уже давно водружён мотор на «ракету» (ах-да, самое-то главное. Если сшитая из дерева лодка – шитуха, то как же тогда назвать лодку, сделанную из «обтекателей и элементов силового конуса боковых ракетных блоков»? «Ракета», однозначно), доедены шаньги с морошкой и черникою, допит чай. Пора и честь знать, да и паром через вновь обретенную Пёзу до 11-ти только. Мотор, установленный на «ракету», тарахтит под присмотром хозяина дома. Впрочем, это уже те места, где моторы с лодок не снимают. Зачем, если и двери не запирают? А мы возвращаемся в Мезень.
Ещё долго мы с Олежкой пытаемся заставить спутниковый телефон работать в качестве модема, это даже получается вроде, но с такими скоростями и надёжностью, что часа в два ночи оставляем эту затею в пользу сна.
26 августа.
Несмотря на поздний отбой, просыпаемся рано – от предчувствия сегодняшнего старта и нетерпения. В 9—00 отъезжаем от дома Николая Федотыча, загрузив до предела обе наших машины. Ещё дозаправка – заливаем в Мезени бензином все свободные ёмкости. Топлива у нас уйдет много, но проводники уже позаботились – в Бычье нас ждёт одна 200-литровая бочка, в Мосеево – ещё одна, но точного понимания расхода у нас нет: кто его знает, как оно, с плотом-то, пойдет. Пока «Деф» заправляется, заезжаем за Олегом, живущим на улице Набережной Ленина (тут бы музыку вставить, или у Фёдора Чистякова спросить, не бывал ли он в Мезени?)

Набережная Ленина.
Сорок километров от Мезени до поворота на Бычье проходят в разговорах, навеянных названиями сёл и деревень на указателях.
Так что пора про пезян. Вообще, вот это название жителей тех или иных населенных пунктов с окончанием на «а» – тоже местная особенность. Если жители всей Пёзы – пезяна, то жители, скажем, Дорогорского – дорого́ра, Заозерья – заозёра, и так далее. И даже жители Мезени не мещане, а мещана. Вот сразу в голове мордва, литва… Но у всех жителей деревень есть, помимо литературных, ещё и свои, народные, прозвища. Хотя первый указатель рождает совсем другие мысли. Деревня Заакакурье. (Не знаю, что это название говорит вам, а у меня оно до сих пор ассоциировалось с «прошлой жизнью». По пути из Минвод в Приэльбрусье есть село Залукокоаже. Я понимаю, что это из серии схожести Рабиндраната Тагора и Джавахарлала Неру, Мир с ними Обоими, но вот так). Но всё оказалось гораздо проще – деревня находится за ку́рьей – старицей или протокой. Это сейчас она просто Курья, а когда-то – Ака Курья. Правда, такой анализ надо делать аккуратно, скажем, к пинежской деревне Ру́сковера он не подойдет. А вот следом за Заакакурьем поворот указывает на Ла́мпожню, в которой я бы увидел производное от «по́жня».
– Николай Федотыч, а осталось что интересного в Лампожне? – спрашиваю я, зная, что Лампожня для Мезени – то же, что Холмогоры для Архангельска. Ещё не было никакой Мезени, да и Окладниковой Слободы, из которой она образовалась, тоже не было; была Сокольня, жители которой везли в тогдашнюю столицу этого края, Лампожню, очень ценных соколов, доставлявшихся оттуда к Великокняжескому двору. По мнению А. В. Новикова, приведенному Н. А. Окладниковым (далее по тексту Н.А.) в книге «Мезенские деревни», Лампожня упоминается в исландских сагах 12 века. Я поспорю с Окладниковым ещё, в том числе и в этом тексте, да простит меня наставник, но не в этом вопросе – мне выгодно ссылаться на Новикова, нашедшего в тех же сагах и упоминание о Волоке под веком 11-м; жаль, не указал он первоисточник… Тем не менее, грамота Грозного 1545 года обозначает Лампожню, как место, куда «самоеды приезжают… торговати с русаки», (там же). Кстати, в писцовой книге 1646 года в Лампожне значиться всего 26 жилых дворов. И 69 пустых. А? Знаете, что это значит? Когда мы дойдем до крайних деревень, я, пожалуй, сравню численность их населения в разные годы. И сделаю некий оптимистичный вывод. Но в голову это сейчас пришло, как аналогия с вымиранием нынешних деревень, – Так стоит в Лампожню-то заехать?
– Да туда сейчас не проедешь – Курья-то разлилась!
Что ж. Остается довольствоваться тем, что лампожён называли кибасниками. Всё просто – кибасы – грузила для сетей из обожженной глины, иногда обшитые сверху берестой.
Дальше – Заозерье. Вот тут интересно: жители Заозерья, – заозёра – кислы камбалы. Н.А. считает, что это потому, что любили они сиё блюдо. Хм, не верю. Не верю, чтоб подтекста не было – слишком умён этот люд и ироничен, чтоб так-то прямолинейно. А кислая камбала – очень уж специфический продукт, вкус и запах которого изысканным почитается лишь на Мезени. Говорят, кислую камбалу запрещали даже продавать в своё время в магазинах, делая, впрочем, для местных жителей исключение. Мы, пожалуй, теперь больше знаем о заморских продуктах, обладающих такими свойствами – типа азиатского фрукта дуриана или кхмерского блюда прохока, а тут, поди ж ты, русская кисла камбала. А народ-то, заозёра – с душком, видать. Но кому-то – лучше любого лакомства.
Утомил? Хорошо, уже Дорогорское, центр сельсовета (муниципального образования, простите). Дорогора – совы. Н.А говорит, не спали, по ночам сёмгу ловили, когда запрещено было. Да нет же! Нет не в смысле, что запрещали и ловили, нет в том смысле, что так делали все. А вот Дорогая Гора – она потому и дорогая, что стоит практически уже у впадения Пёзы, на развилке. Пост тут. Или просто местные «казачки» дань собирали; для коробейника и путника гора-то и дорогая. А чтоб не платить, старались проскочить мимо них путники ночью. Вот и не спали «казачки» – дорогора – совы. Нет, не все ещё, не удержусь. На той стороне Мезени стоит особняком моя любимая Кимжа. Они и по жизни особняком, нелюдимые, строгих правил. Да и вообще, чернотропы. Может, потому и сохранили своё село в первозданном практически виде. И промысел в деревне был удивительный – медное литьё. Стоп-стоп! Как же я раньше-то не спросил, ещё при первых визитах в Кимжу? А медь-то откуда? Или спросил, а мне ответили что-то типа «местная», и я тогда не придал этому значения? Кимжа – она же напротив впадения Пёзы в Мезень стоит. А второй нашей целью, после Волока, мы объявили посещение древних Цилемских рудников? Были рудники, ещё при Иване III, на Цильме. А куда ж оттуда медь-то? Только через Волок в Пёзу – самое близкое…
– Я что, вслух?
– Дак я тебе про то и говорю, прерывает не то мои мысли, не то монолог, Федотыч. «Кто плывет? – Пезяна. Какой товар? – железина». Вот тебе и объяснение. – Только первая поговорка – «Не народ, а пезяна, не товар – железина» мне больше по душе, ёмче. И смысл приобретает она не уничижительный, а, наоборот, демонстрирует превосходство – не какой-то там народец торговый идёт, а сами пезяна, которым доверили государево дело – медь возить. Железину. Не то что там товары какие-то.
Но вот мы и в Бычье. Начинается самое неприятное – рутина сборки плавсредств.
«Гризлик» с прицепом. Болотные расширители колес (изобретателю – памятник). На фото их ставят на место. Интересно, поплывет ли квадрик с ними? По няше идет уверенно.

Болотные расширители колес.
– Ну, плывёт же! – это Серёга.
Невозмутимо монтировавший всё это время плот Димон, не обернувшись, бурчит:
– Не верю!
И только закончив сборку и тестирование плота, демонстрирует – вот так плывёт. А потом сам садится за квадр: а так по дну едет. Истина окажется посредине – «Гризлик» с болотными расширителями обладает примерно нулевой плавучестью, если без седока.
Погода постепенно прояснятся – дождю, видимо, надоело, что мы его не боимся. А чего бояться-то – «Деф» оборудован на этот случай «маркизой». Очень удобно под дождем собираться.
Около 5 часов вечера основные сборы закончены, плавсредсвта в воде.
Пьём чай у Александра, опять с шаньгами с лесной ягодой, но торопимся быстрее намазывать на них домашнее вкуснейшее масло, ибо не терпится…
18—30. Старт! Достал меня этот пролог, начинается Часть первая – «Вверх по Пёзе и Рочуге!»
Да. Жители Бычья (бычана) – комарники. А вовсе не «солоки», как в книжке Н. А. А почему – не знаю…10
Часть первая. Вверх по Пёзе и Рочуге!
«Долго, коротко ль, в дорогу
Собирались – собрались,
А отчалив от порога,
Обрели другую жизнь».
Николай Окулов, «Родная сторонка»
Нижняя и Средняя Пёза
Итак, 18—30, 26 августа. Старт. Слегка удивлённые бычана машут нам рукой из-под зонтиков – дождь то стихнет, то снова начинает забираться мелкими капельками под капюшон.
Плот привязан к головной «ракете», что в какой-то степени удивительно нам самим. Вообще, эмоции переполняют и нас, и проводников:
«По родным просторам Пёзы
Не во сне, а наяву, —
Слава, слава Тебе, Боже, —
Я на лодочке плыву…
Хорошо!» (Н. Окулов, там же)
Минут пятнадцать требуется нам, чтобы вырулить из старицы и войти во вновь сформированное русло. Минуем паром. Всё. Пока приспосабливаемся – мы с Серёгой и Олегом (давайте, чтоб не путаться, Олег, который Коткин, так и останется Олегом, а Олег, который Кажарский, так и останется Олежкой, ок?) на носу «ракеты», управляемой Федотычем, а Димон с Олежкой на резинке под «Ветерком». Олежка уже начал осваиваться в роли оператора.

Оператор
Первым не выдерживает Серёга – «ну, река же, скорость – что надо для троллинга», – и уходит на резинку со спиннингом.
А резинка начинает отставать. И «ракета» идёт пока на средних оборотах – движок же новый. Тем не менее, пытаемся замерить определяющие параметры – скорость и расход топлива. «Ракета» идёт примерно 6 км в час, добавление оборотов до максимума дает целых семь с половиной – похоже, с графиком я просчитался. Идти на полных 7 с половиной – смысла нет, поскольку такой режим увеличивает расход топлива почти вдвое – не та плата за полтора километра в час выигрыша. От измерений отвлекает вдруг замолкший «Ветерок», поначалу установленный на резинку. Ага, наскочили, то ли на камень, то ли на перекат, и срезали шпонку. 19—30, ремонт. Димон параллельно занят тонкой настройкой двигателя.

Тонкая настройка двигателя
Дождь опять прекращается, чтобы мы могли полюбоваться вечерними сумерками – «сутемёнками».
– Му́соко, – задумчиво произносит Федотыч, – Пора приставать.
Полетевшая шпонка – явное свидетельство того, что в темноте по Пёзе идти не стоит.

Сутемёнки. Мусоко.
Останавливаемся на поляне высокого, по ходу левого (орографически правого) берега, покрытого огромной, в человеческий рост, но примятой лошадьми травой. Сооружением в центре поляны, назначение которого в густых сутемёнках мы не смогли издалека определить, оказывается поленница дров. Вот так делают в Бычье – заготовленные дрова колют прямо на берегу в поленья и складывают в поленницы, чтоб на лодке потом отвезти домой. 21—00. Первая ночь на воде. Потрясающий закат, невозможная тишина. Никого кругом, только поле на берегу, вытоптанное лошадьми из Бычья.
«Была тихая и свежая ночь; небо слегка было подернуто облаками, которыя, безпрестанно изменяя свои формы, медленно неслись над окружающем нас тёмным лесом… Долго еще сидел я на берегу, прислушиваясь к этим звукам природы и в раздумьях смотря на воды, которыя медленно и с тихим, едва слышным журчанием пробивали себе путь чрез непроходимые леса…» *. Нет сомнений, что Шренк писал эти строчки на этом самом месте.
И мы долго сидим у костра и завидуем сами себе.
27 августа. Хотел было посравнивать население Бычья в разные годы, но упёрся в нестыковку. У Шренка в Бычье живет 2 семейства, а по переписи 1839-го (по данным Окладникова) – 130 человек в 17 дворах. Оставлю-ка я численный анализ на потом.
Удивительно хорошо выспались, и в 8—00 мы уже на воде, немножечко хмурой от набежавших, по Шренку же, туч («Накрапывающий дождь разбудил нас рано утром…» *)
Здесь хорошо видно ту самую линию связи, идущую вдоль реки – то, что связывает жителей пёзских деревень с остальным миром.

Линия связи на Пёзе
Пробуем разные комбинации – очень уж нам не нравится «Ветерок» на «резинке». Этот мотор не хочет работать на малых и средних оборотах – только на максимуме, но тогда бензин через него льётся, похоже, в реку напрямую.
В 9—15 проходим приток Нижняя Айпа. (Левый орографически. Чтоб не путаться дальше, я везде левый-правый буду обозначать именно с точки зрения течения реки, а не нашего хода. Поскольку мы идём против течения, то «левый» орографически находится справа от нас, и это сыграет со мной однажды забавную шутку.) Сразу за притоком к берегам вплотную подходят леса, над которыми возвышаются первые в нашем походе лиственницы. Ещё в километре Пёза разделяется на две протоки островом, напротив которого, на левом берегу – изба, которую проводники называют Керосинная.
Нет, ну не может быть. Открываю карту. Изба там есть, без названия. Но болото и озеро за ним – Карасиное. Трансформировалось название, и филологам остаётся лишь гадать, зачем рыбаки приезжают в эту избу – за карасями ли из одноименного озера, аль ещё зачем. Ну-ну. Например, за поиском частей керосиновых «Союзов», а вы что подумали?
Поскольку «керосинная» – первая изба на нашем пути, остановимся. Не в ней, а на ней и на понятии этого удивительного, общесеверного явления «избы». Явление действительно всеобъемлющее, поскольку изб тут относительно много – и по берегам рек, и на озёрах, и вдоль линий электропередач (где они есть) и связи. Везде, где есть необходимость у людей остановиться вне деревень, независимо от причин такой остановки, на Севере есть избы. Как правило, избы носят прикладной характер – изба рыбаков, охотников или обходчиков-связистов. Но основная концентрация таких изб всё же вдоль рек-путей. В такой избе, как правило, есть печь, одна закладка сухих дров внутри и поленница снаружи.

Варило.
Снаружи будет вари́ло – приспособление для подвешивания котелков над костром, или аналог дровяной плиты, а внутри – стол, лежанки или лавки, может даже, прикрытые шкурами или тряпьем, много-много гвоздиков, верёвок или даже специальных перекладинок вокруг печи для просушки одежды и обуви, а также спички. Может быть и соль – сахар – чай, набор круп, консервов. Обычно есть топор. Двери таких изб, как впрочем, и двери изб в деревнях, не запираются – если никого нет, то снаружи приставлена палка – при́став. Ну, а если есть – вы и так увидите. Эти избы – не совсем общественные, у каждой есть хозяин, – тот, кто её поставил. Хозяев каждой избы тут знают, но, тем не менее, любой путник может остановиться в такой избе. В избах есть своя этика. Остановились, сожгли дрова – наутро пополните запас. Всё, что есть в такой избе, может быть использовано, но не забрано. В одной из изб мы обнаружили канистру бензина. Понятно, что кто-то оставил его себе на обратную дорогу. Такие вещи брать не принято. Принято оставлять за собой чистоту и порядок. Ещё принято, что остановиться в избе вы можете в любом случае, занята она или нет, и сколько там уже есть путников – места хватит всем. Да и чаем с вами поделится тот, кто пришёл первым. Мне кажется, такие избы были всегда, когда было постоянное население и движение. Раньше нередко строительство их было казённым делом, но присмотр всегда поручался местным крестьянам. Вот, смотрите у князя Голицына – губернатора Архангельска конца 19 века:
«До Цилемскаго волока построено шесть казенных станционных избушек; в них проезжающие могут отдохнуть, сварить себе пищу (если есть своя провизия), так как во всех этих избах имеются печи и при них заготовлено несколько вязанок дров. Станционныя избы находятся под наблюдением сторожей, называемых здесь кушниками, которых полагается по одному на 2- 3 избы».11
Кстати, очень рекомендую, наряду со Шренком и Максимовым— лучшие произведения по тому краю века 19-го. В этой книге есть и описание Цилемского, или Пёзского – с какой стороны смотреть – волока, сделанное самим Губернатором. Да, были правители на Руси…
За избой – высокий правый берег – ще́лья.

Щелья
Вот, идём мы тут под моторами, периодически замеряем скорость. Шесть километров в час. А рассуждаем о другом. Как шли здесь, отталкиваясь шестами ли, бечевой ли, на ло́дьях те, кто шёл через Волок? В какой они были обуви, если даже обувь 21 века из вспененной резины промокает? Наверное, кожаная, просмоленная, но всё равно всё это протекало, пропускало воду. Пробуем полный газ – 7 километров в час. Оторвалась верёвка плота, вылавливаем.
11—40. Проходим устье речки, которую проводники называют Чеца. На моей карте она Цема – первое расхождение с топографами, но на горизонте уже Лоба́н.
«Хоть и вынесло нас странствие
К деревушечке Лобан».
– это снова из Окулова…
11—55. Подходим к деревне Лобан. У Шренка тут снова два жителя, и в этот раз это совпадает с данными переписи, приведенной Окладниковым. А у нас житель один – Юрий Борисович Яковлев. Его лодка на берегу перед деревней, наверное, в лес ушёл.
– Значит, в деревне никого, – говорит Федотыч.
Лобан – уникальная деревня, единственная на Пёзе, стоящая задом к реке.

Лобан
Удивительно, да? Все дома отвёрнуты от реки, как не бывает на севере, словно кто-то приказал всем избушкам: «А поворотись-ка к лесу передом…». А ещё Лобан очень похожа на мои любимые Кимжу у Мезени и Едому на Пинеге – этакой пасторальной нетронутостью. Пройдемся? Двухэтажные крестьянские дома. Остатки ещё помнящего советскую власть магазина, место сбора деревни. Между прочим, действующее – несмотря на то, что постоянный житель деревни тут один, остальные дома не брошены, хозяева используют их как дачи. Ничего себе дачка – 70 км на авто до Бычья, а потом еще больше 25 водой. Это если из Мезени…

Главная улица.