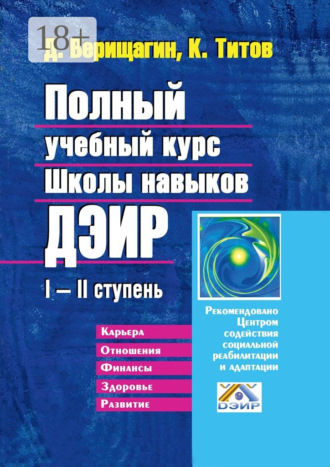
Полная версия
Полный учебный курс Школы навыков ДЭИР. I—II ступень
Эта задачка посложнее. Действительно, отчего это человек может вдруг видеть подобный феномен? Легко убедиться, что к оптике он имеет малое отношение, поскольку толщина дымки и ее интенсивность не меняется ни при прищуривании, ни при разглядывании одним глазом.
Но не влияет ли и на визуальный канал уже обнаруженный нами проективный механизм? Вспомним ситуацию, когда нам приходится нашаривать нечто (скажем, приклеенную кем-то жвачку) на нижней поверхности стола: рука шарит под столом… а что в это время делают глаза? А ведь глаза, если не возведены расфокусированными к небесам (совершенно характерное положение для сосредоточенности на воображаемой картинке), направлены на поверхность стола и «отслеживают» движения невидимой под ним руки! То есть наша психика стремится моделировать и предполагаемую визуальную картинку, накладывая ее пространственно на наблюдаемую непосредственно реальность.
Явление это широко известно – к примеру, так называемые иллюзии восприятия полностью основаны на свойстве психики вторгаться, «редактировать» восприятие образа, достраивая его согласно имеющейся модели. Причем, как это прекрасно известно, такая достройка происходит без участия сознания – в известном примере с контурным кубом, который можно воспринимать только в двух вариантах, переход изображения из прямого в вывернутое происходит сразу же, а никак не частями.
Но вот отмеченная нами особенность поведения ауры, а именно ее растяжимость, свидетельствует о более широком вмешательстве психики в редактирование изображения. Ведь стоит потерять фантомное ощущение контакта пальцев, как туманная дорожка ауры исчезает! То есть наша психика достраивает тактильные ощущения ощущениями визуальными, а в нашем случае дополняет фантом тактильных ощущений фантомом зрительным.
Вот теперь мы готовы к предварительным выводам.
Во всех трех рассмотренных случаях мы имеем дело с фантомными ощущениями, обусловленными работой проективных механизмов человеческой психики.
Эти механизмы моделируют воспринимаемый человеком объект, дополняя его непосредственно воспринятый образ симулированным, фантомным сигналом его прогнозируемых сенсорных свойств. Зрительная сфера дополняется тактильной и проприоцепторной, и vice versa. Осознаваемая сфера дополняется данными из неосознаваемых, и любая проекция содержит в себе больше потенциальной информации, чем осознается в данный конкретный момент. Мы имеем дело с сенсорными проекциями как с самостоятельно существующим феноменом.
Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении. Так можно ли человеку игнорировать ощущения?
Глава 2
Интересная Вселенная энергоинформационики сделана из скучных элементов сенсорных проекций
Пока все, что получается в нашем исследовании, совершенно не мистично, не требует для своего объяснения привлечения разнообразных таинственных энергий (а значит, мы, согласно принципу Оккама, и не будем этого делать), но совершенно пресно и неинтересно, как отварная брюква.
И пока совершенно неясно, откуда бы взялись хотя бы такие фундаментальные свойства биополя, как его способность служить источником информации о состоянии организма и влиять на другого человека, не говоря уже об информативных свойствах ауры и эфирного тела? Попробуем разобраться и с этим.
Каковы особенности самого феномена достройки образа одного сенсорного плана информацией, полученной с других сенсорных сфер? К примеру, когда при отсутствии фактического прикосновения зрительно регистрируемый приближающийся предмет вызывает достройку тактильного ощущения фантомным прикосновением? Их две.
Во-первых, достройка происходит без прямого контроля сознания и при отсутствии сознательной концентрации внимания на «дополнительном» сенсорном канале. Мы не думаем о том, что предмет приближается, напротив даже, мы наблюдаем нашу ладонь, ни с чем не соприкасающуюся, но тем не менее регистрируем изменение фантомных ощущений. Мы не уговариваем себя почувствовать шершавость поверхности, ощупываемой проекцией руки, но ощущение шершавости само вторгается в наше сознание, стоит сосредоточить на нем внимание, а иногда и самопроизвольно. Фантомное ощущение создается и присутствует в психике неосознаваемо, поставляя информацию сознанию лишь по необходимости.
Во-вторых, психика по сути стремится за счет фантомных ощущений привести реально воспринятый образ одного сенсорного плана в соответствие с информацией другого сенсорного плана. То есть нечто внутри нас ставит вопрос: что ощущала бы ладонь, если бы прикоснулась к шершавому на вид пледу? – и тут же дает ответ в виде фантомного ощущения шершавости, дополняющего существующее тактильное ощущение. (Таким образом, мы имеем как бы два набора ощущений – один реальный, а другой фантомный, служащий для ориентировки и поддерживающий комплексный образ предмета, необходимый для планирования взаимодействия с ним. Тоже ничего удивительного.)
Итак, достройка осуществляется без непосредственного контроля сознания, причем информация с не являющегося прямым предметом внимания сенсорного канала накладывается на образ с отслеживаемого канала. Но ведь человеческая психика получает массу информации, которая отнюдь не всегда осознается! Она ведь тоже должна участвовать в такой процедуре достройки – ведь в приводившихся примерах мы же не говорим себе, что сейчас будем накладывать зрительную информацию на тактильный канал! Ведь и информация, полученная на основе косвенных данных, попросту синтезированная (глоток хо-о-лодного лимонада), тоже должна участвовать в достройке?
А в этом случае механизм достройки сенсорных проекций должен позволить человеку выявлять такие неосознаваемые сигналы. Существует ли эксперимент, позволяющий продемонстрировать это?
Да, существует. Он крайне прост и проделывается в Школе ДЭИР в рамках развития тактильных ощущений уже на первом часу занятий: человек несколько раз проводит ладонью по столу, запоминая ощущение гладкости поверхности, а затем, кругообразно двигая рукой, отрывает ее от стола сантиметров на 15—20, концентрируясь на следовых фантомных ощущениях гладкой поверхности на ладони. Затем он закрывает глаза и принимается вести руку над столом. У него есть инструкция открыть глаза, когда ощущения изменятся (инструкций, как именно должны измениться ощущения, не дается, да и вообще человек пребывает в неведении относительно процедуры и цели демонстрации). Партнеру этого человека, как только тот закроет глаза, дается задание неслышно положить на стол в любом месте лист бумаги.
В девяти случаях из десяти человек открывает глаза, когда его рука оказывается над бумажным листом!
А в тех случаях, когда человек «не обнаруживает» бумагу, со стороны четко заметно «застывание» руки над границами листка… колебание (в этот момент его психика принимает решение – считать или не считать изменение ощущений значимым) … и возобновление движения. Проекция зарегистрировала сигнал, но сознание отказалось его принять. Очень, кстати, важный момент, который мы будем рассматривать позднее: неосознаваемость сенсорной проекции не обозначает отсутствия поставляемой ей информации; это свойство обеспечивает формирование неосознаваемого коммуникативного слоя, или, в терминах энергоинформационики, эгрегоров.
То есть фантомные ощущения (их можно назвать ощущениями «эфирного тела», ощущениями «поля») позволяют обнаружить абсолютно неосознаваемую информацию о месте положения бумаги! Причем в практическом смысле совершенно неважно, на основе каких данных эта информация была получена – подпороговый звук положенной бумаги, неосознаваемое движение воздуха от руки партнера, не проникающее в сознание изменение ритма его дыхания, изменение отражения тепла от поверхности стола и т. д.
Каналов может быть много, однако поставленная задача концентрации на фантомных ощущениях в сочетании с прямой инструкцией зарегистрировать их изменения и косвенной – зарегистрировать в определенной области (где-то над столом) дает в результате неосознаваемую редактуру тактильной проекции и сознательную регистрацию! Чудо, фокус, нечто вызывающее удивление… Но совершенно закономерное!
Аналогичный эксперимент осознания при помощи проективных механизмов неосознаваемой впрямую информации приведен О. Морозом в его исследовании феномена поиска предметов при помощи рамки (см. информаторий Школы в Интернете по адресу www.deir.org). Ему, в частности, удалось показать, что обнаружение спрятанного предмета напрямую зависит от присутствия в том же помещении спрятавшего предмет человека, что совершенно согласуется с нашими выводами. Человек не показывает вида, где скрыт предмет, но психика ищущего бессознательно отражает изменение его осанки, ритма дыхания, направления взгляда, проецируя на движение рамки. И вот предмет обнаружен. Слов нет, при помощи полиграфа можно достичь того же самого. Но с рамкой все же дешевле и удобнее.
Еще один, не менее наглядный пример – это ощущение «поля». Если «пощупать» свое собственное поле, концентрируясь на его качествах, таких как упругость, тепло, вибрация, а затем «пощупать» поле другого человека, то сразу же обнаружится, что поля различаются!
В общем-то неважно, в какую сторону имеются отличия, нам сейчас важен факт, что различия присутствуют. Отчего они возникли? Ну конечно, потому, что у этого человека другая температура тела, другая кожа, другая одежда, другой цвет лица, другая масса, вы к этому человеку как-то относитесь… Человек – другой!
Но ведь мы же не думаем в этот момент о его температуре тела и прочих различиях. Мы на них даже не концентрируемся, все наше внимание поглощено фантомными тактильными ощущениями – но мы уловили разницу. Неосознаваемые особенности человека наложились на нашу сенсорную проекцию, позволив достаточно четко уловить некое различие.
А если поставить задачу найти эти изменения в определенной области, например над позвоночником (вспомним, что в примере с листом бумаги у нас была косвенная инструкция отследить изменения в конкретной области)? Ведь в области, допустим, радикулита будет присутствовать целый ряд изменений – смещенный позвонок, мышечное напряжение, повышенная температура, изменение окраски кожных покровов. Причем в ряде случаев эти изменения совершенно неразличимы, даже если знаешь, что искать! Принять во внимание и общий тонус мускулатуры, и незначительное его повышение, и стремление щадить пораженную область, и т. д. – задача довольно сложная для сознания. Но фантомное ощущение, появляющееся в сенсорной проекции, способно выявить это весьма элементарно. Что, как показывает практика, и делает. Диагностика по фантомным ощущениям – тактильным и визуальным (по полю и ауре) – способна довольно точно указать место травмы, в том числе старой, локализацию болезненного очага. Причем в ряде случаев только инструментальное исследование позволяет выявить нарушение – сам объект исследования отрицает его существование!
Тут нелишне вспомнить эксперимент известного психолога В. М. Аллахвердова, иллюстрирующий крайнюю изощренность неосознаваемых механизмов нашей психики. В этом эксперименте человеку предлагалось наобум назвать день недели нескольких произвольных дат, и было обнаружено, что объект такого эксперимента статистически достоверно совершал одну и ту же ошибку! То есть поставленная задача решалась, но в сознание вводилась в искаженном виде – хотя, казалось бы, ее и решить-то без тренировки невозможно. При таких возможностях разума неудивительно, что при помощи сенсорной проекции поля экстрасенс улавливал информацию о развивающейся патологии.
Давайте зафиксируем наш вывод.
Изменение фантомного восприятия сенсорных проекций позволяет сделать осознаваемыми данные, полученные в неосознаваемом напрямую виде. «Поле», «аура» и «эфирное тело», как взаимосвязанные проекции, могут рассматриваться в качестве самостоятельных информационных и информативных феноменов.
Как феноменам пассивным, регистрируемым при активном восприятии, дадим им вне зависимости от канала (зрительного, тактильного, проприоцептивного, слухового, вкусового, обонятельного) общее название – ПОЛЕ, или СЕНСОРНАЯ ПРОЕКЦИЯ (далее СП).
«Доктор, у меня в левой коленке чувство, похожее на задумчивость» (Е. Шварц, «Дракон»). Смешно. Но разве кто-нибудь пытался выяснить, чем вызвано нелогичное ощущение?
Глава 3
Наши ощущения – это кирпичики человеческой реальности
Давайте теперь рассмотрим некоторые дополнительные свойства сенсорных проекций, важные для нашего дальнейшего исследования. Сделаем это на примере упражнения «шарик», заключающегося в создании между ладонями сгустка сенсорной проекции, так называемого «полевого шарика» (при постановке ладоней параллельно друг другу и концентрации на ощущениях в ладонях и между ними при их осторожном, с размахом в несколько миллиметров, медленном сближении и разведении возникает ощущение некоего сгустка (давление, температура, вибрация, тяжесть) между ладонями. Далее с этим сгустком доступны манипуляции, как с материальным объектом).
Во-первых, это комплексность. Сенсорная проекция всегда комплексна, то есть она состоит не из фантомных ощущений одного сенсорного канала (например, тактильное тепло) и даже не из сложных фантомных ощущений одного сенсорного канала (тепло, вибрация, давление), а из смешанных фантомных ощущений нескольких каналов, причем данные одного канала легко перетекают в фантомные ощущения другого канала. То есть «шарик», к примеру, кроме тепла и давления (тактильный канал) обладает свойствами тяжести (проприоцептивный канал) и может быть зарегистрирован зрительно в виде ауры (зрительный канал). На этой базе мы можем предположить в нашей психике существование механизма, который обеспечивает описанное «перекрестное» проецирование сенсорных сфер друг на друга и таким образом воспроизведение в сознании комплексного удобного и естественного образа для калькулятивного моделирования будущей активности.
Кроме того, при движении только одной ладони в другой ладони регистрируются изменения восприятия сенсорной проекции («шарика») – в виде изменения давления, словно оно передается с ладони на ладонь, как это происходило бы, если бы в ладонях был зажат воздушный шарик. То есть данные проприоцептивного канала (движение руки и усилие, с которым она движется) возвращаются психикой в качестве фантомного тактильного ощущения.
Совершенно аналогичный механизм задействован при так называемом «постукивании» полем пальца по ладони.
Во-вторых, это анизотропность. Созданный «шарик» можно выложить на одну ладонь, причем на другой ладони его (фантомных ощущений шарика) не будет, переложить из руки в руку, положить на стол, взять со стола. При этом сам шарик может изменить свои свойства в сторону уменьшения (к примеру, «полегчать» или «похолодеть»), что зависит, как мы покажем позднее, от элементарного нарушения концентрации и введения в действие фильтрующих сигнал механизмов сознания, но никогда он сам не может спонтанно, без волевого усилия или постороннего действия (последнее будет обсуждено далее) перескочить с ладони на ладонь или оказаться в другом месте стола, а также внезапно сделаться «тяжелее», «горячее», «более упругим», то есть усилить свои свойства.
Создается впечатление, что, если можно так выразиться, «концентрация» сенсорной проекции и ее местоположение регулируются бессознательными механизмами психики по однотипной схеме. Как если бы фантомные ощущения, из которых состоит «шарик», являлись некоей «энергией», способной самопроизвольно уменьшаться, но уж никак не увеличиваться.
В-третьих, это мобильность. Свойство, опять-таки хорошо проявляющееся при индивидуальном эксперименте с «шариком». Достаточно создать эту сенсорную проекцию, намеренно усилив одно из ее свойств, например тепло, а затем погрузить себе в солнечное сплетение, как по телу пройдет отчетливая теплая волна. Если погрузить «шарик» себе в область лица, также возникнет заметное усиление тепловых ощущений в данной области.
Конечно, в материальном мире ничего никуда не перетекает – хотя бы потому, что в солнечном сплетении не имеется никакой «дырки» для погружения туда «шарика», но фантомные ощущения, свойства сенсорной проекции проявляют потрясающую проникающую способность! Они с легкостью могут быть перенесены в любую точку тела, изменив в ней ощущения. Это свойство очень важно при использовании сенсорных проекций для самопомощи, саморегуляции. Оно позволяет снизить болевые ощущения, увеличить разогрев ткани, улучшить кровоснабжение, стимулировать активность. Это простейший и изящный способ решить очень сложную задачу саморегуляции (аутотренинг, аутосуггестия, к примеру, подразумевают для решения аналогичной задачи погружение в транс).
Мы вернемся к рассмотренным особенностям сенсорных проекций несколько позднее, когда будем рассматривать практические аспекты их применения. Пока же есть еще несколько свойств, которые остались нами неизученными, в том числе такое важное, как объективность, то есть доступность для независимого наблюдения несколькими наблюдателями.
Но это заставляет нас рассмотреть вариант, что же происходит, когда сенсорная проекция одного человека предлагается в качестве предмета внимания другому человеку. Вот тут и начинается самое интересное!
Что происходит, когда один человек («А») подносит ладонь к поверхности тела или ладони другого человека («Б»)? Разумеется, «А» строит классическую сенсорную проекцию. Но ведь и «Б» делает то же самое! «А» неосознанно представляет, что его ладонь, окруженная сенсорной проекцией, несколько больше, чем материальная ладонь, равно как и то, что поверхность тела «Б» тоже окружена сенсорной проекцией (в данной ситуации неосознаваемая механика психики бесхитростно пользуется инстинктивной гипотезой о физиологическом подобии – так мы, видя, что кто-то сильно ударился, непроизвольно кривимся, перенеся на себя предполагаемые ощущения ударившегося сородича). Так и «Б» знает то же самое! «А» знает, что он ощущал бы, соприкоснувшись с «Б», и создает соответствующую проекцию, однако и «Б» знает то же самое и бессознательно экстраполирует, как ощущает свою сенсорную проекцию «А», и неосознанно создает свою сенсорную проекцию с учетом гипотезы о наличии у «А» сенсорной проекции. Более того, «А» считывает ощущения «Б», его сенсорную проекцию, непроизвольно дешифруя изменение многочисленных невербальных особенностей его поведения. И наоборот! «А» и «Б» стремятся установить контакт между своими сенсорными проекциями – со всеми закономерностями, выявленными нами для сенсорных проекций!
Возникает ощущение «полевого контакта» между двумя сенсорными поверхностями, окруженными зоной сенсорных проекций. Оно больше по «толщине», нежели «односторонняя» проекция (например, в случае «контакта» с неживым предметом). Но, пожалуй, не это самое важное. Важно то, что этот контакт в полной мере обладает свойством комплексности и анизотропности.
То есть на эту зону контакта проецируется в виде фантомных тактильных ощущений вся неосознаваемая информация, получаемая контактирующими субъектами друг о друге! И одновременно каждый из субъектов строит свою сенсорную проекцию из неосознаваемой гипотезы, что у его партнера должны быть те же самые ощущения, что и у него самого!
Это значит, что, согласно данной гипотезе об общности ощущений в зоне контакта, волевое изменение этих ощущений у него самого приведет к изменению ощущений у другого.
Верно ли это? Ну конечно, верно. Ведь сенсорная проекция как раз и позволяет сделать более доступными для психики обычно неосознаваемые сигналы! Изменение дистанции между контактирующими поверхностями, изменение температуры одной из контактирующих поверхностей, изменение выражения лица одного из партнеров, изменение его позы и ритма дыхания – все это немедленно находит свое отражение в фантомных ощущениях полевого контакта. А изменение ощущений приводит к неосознаваемому изменению поведения и вновь отражается на ощущениях в зоне контакта…
Коль скоро изменения поведения приводят к изменению ощущений, то возникает зона невербального раппорта, зона обратной связи по проективному каналу. «А» подражает «Б», «Б» подражает «А». Сенсорная проекция занимает интерперсональное, коммуникативное положение. И наличие этого феномена легко продемонстрировать в эксперименте – собственно, этот эксперимент многие из нас проводили еще в далеком детстве, и этот эффект наблюдается даже у людей, не умеющих пользоваться сенсорными проекциями.
Человек стоит с закрытыми (а лучше – с завязанными) глазами. У него нет никаких инструкций. Другой, стоя сбоку от него, располагает ладонь на расстоянии сантиметров пятнадцати от поверхности тела стоящего в области основания шеи сзади и держит ее неподвижно в течение нескольких десятков секунд, добиваясь ощущения полевого контакта. Затем ладонь начинает медленно отводиться назад или, наоборот, двигаться вперед (вариант – сдвигать ощущение поля, что всегда сопровождается трудноуловимыми, но тем не менее присутствующими приближающимися или удаляющимися движениями), и стоящий начинает раскачиваться и клониться в соответствующую сторону! Это очевидно, а иногда настолько выражено, что приходится помогать волонтеру восстановить равновесие, чтобы уберечь его от падения! При проведении эксперимента не говорится ни слова, но при этом индуктор может нарушить равновесие волонтера в любую сторону по своему желанию.
Давайте разберем этот эксперимент. В начальный период времени, когда рука держится неподвижно и создается ощущение полевого контакта, индуктор выстраивает свою сенсорную проекцию, добиваясь её неизменности. Это означает, в том числе, что он неосознанно отслеживает спонтанные движения реципиента, сохраняя расстояние от ладони до его тела неизменным. Реципиент, неосознаваемо воспринимая, отслеживая ладонь индуктора, выполняет то же самое.
Далее индуктор нарушает равновесие и начинает, к примеру, отодвигать ладонь (или сдвигать проективные ощущения поля, перемещая ладонь бессознательно), но стремится сохранить полевые ощущения на том же уровне интенсивности, то есть отслеживая ритм естественного раскачивания реципиента. Реципиент тоже стремится сохранить ощущения постоянными, поэтому неосознанно смещает естественное раскачивание в сторону перемещения ладони. И эффект достигнут!
Конечно, можно возразить, что тот же самый эффект можно достигнуть без всяких таких ощущений полевого контакта. Попробуйте. Результат практически нулевой. Почему? Потому что раппорта, включающего отслеживание в ощущении естественного раскачивания реципиента, не возникает.
Благодаря этому феномену возможно бесконтактное снятие боли, в том числе головной, бесконтактные массажи, более сложные воздействия… Собственно, это несколько другая тема. Но об этом стоит уже говорить в иной терминологии, к которой мы придем к концу нашей статьи. Пока запишем вывод, продолжающий наше перечисление свойств сенсорных проекций.
В-четвертых, сенсорная проекция может проявлять свойства интерперсональности и коммуникативности. И вот как раз в этом отношении сенсорная проекция является объективной. Что такое объективность? Объективность – это доступность независимому наблюдению.
Проще всего использовать немного шутливый пример: «А» заявляет, что на столе стоит кастрюля. Если «Б» наблюдает кастрюлю в этом же месте, то объективность кастрюли уже можно заподозрить. А уж если «Б», зайдя в пустую комнату, спросит оттуда «А»: «Что это у тебя на столе пустая кастрюля стоит?», то кастрюля несомненно объективна, реальна и существует независимо от сознания «А». А если «Б» не может обнаружить на столе кастрюлю, то есть не обнаруживает ничего или обнаруживает, скажем, бутылку водки, то «А», скорее всего, шутит или же у него белая горячка.
Если нечто удовлетворяет требованию объективности, то это нечто является реальным. Если не удовлетворяет, то реальным его признать невозможно.
Чтобы тезис об объективности сенсорной проекции стал более очевидным, ответим на ряд щекотливых вопросов относительно объективности иных явлений нашего мира. Объективен ли камень, если его никто никакими способами не наблюдает? Нет, и о его существовании мы можем только догадываться.
Но объективно ли слово? Вот здесь вопрос серьезнее. Само слово в его материальной форме (шум, знаки на бумаге) несомненно объективно. А его значение? Значение нематериально, это понятно. Но слово «бриллиант» в русском означает одно, а в английском совершенно другое – «блестящий». Соответственно, русский и англичанин поймут каждый свое. Казалось бы, значение слова не объективно, а объективен только звук как его материальный носитель.
Но не все так просто. Если слово «бриллиант» записано на магнитофон и его дают прослушать только русским, то у каждого из них будет появляться независимо друг от друга набор из приблизительно одних и тех же значений. То есть в данном случае, в рамках одного языка, слово и его значение проявляют свойства объективности. Запомним это.

