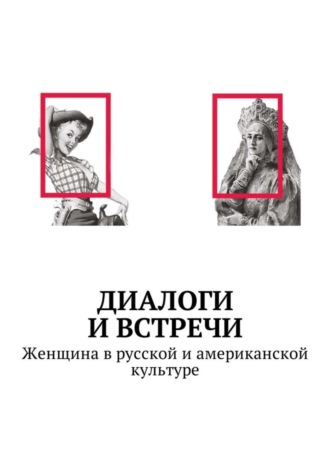
Полная версия
Диалоги и встречи: Женщина в русской и американской культуре. Сборник статей, материалов конференции
Вопрос о статусе женщины, ее общественных функциях и сферах ее деятельности на протяжении всей половины XIX столетия становится одним из главных, требующих широкого публичного обсуждения. Помочь женщине в обретении знаний о своем предназначении в жизни общества были призваны эссе, проповеди, стихи и романы, предлагающие советы и философские обоснования устройства семейной жизни, домашнего очага, буквально наводнившие читательский рынок в 20—50-е гг. Именно в это время отмечается мощное развитие женской публицистики, появляются первые женские газеты и журналы. В них начиналась карьера американских писательниц, многие из которых пользовались огромной популярностью и имели достаточно большое влияние не только на формирование литературных пристрастий своих современниц, но и оказывали большое влияние на общественную жизнь США.
Примером такого влияния может служить деятельность Сары Джозефы Хейл (Sarah Josepha Buell Hale, 1788—1879), ставшей одной из самых значительных фигур американской общественной жизни первой половины XIX в. Сара Хейл была редактором первых американских журналов для женщин: «Америкэн Лейдиз Мэгэзин» и первого большого журнала для женщин и о женщинах в Америке «Годиз Лейдиз Бук».
Основное направление деятельности Сары Хейл на посту редактора было связано с ее убеждениями в необходимости женского образования. В этом смысле она активно и творчески продолжала и развивала идеи своих предшественниц, в частности, Джудит Мюррей. Так, в одной из своих статей она писала, что «в этот век нововведений, возможно, ни один эксперимент не имеет такого важного значения для формирования характера и счастья нашего общества, как предоставление женщинам преимуществ систематического и тщательного образования» [Цит. по: 11, p.183].
Несомненной заслугой Сары Хейл стало то, что именно в журнале «Годиз Лейдиз Бук» дискурс «домашнего очага» и проблемы самоидентификации женщины в Америке получили самое серьезное обсуждение, и результаты этих обсуждений не замедлили сказаться на формировании общественного мнения по этим вопросам. В своих статьях, касающихся самых разнообразных женских тем – от модных фасонов и советов по кулинарии до проблем расширения сфер деятельности женщин и возможности их трудоустройства – она исходила из глубокого убеждения в том, что Господь наградил женщину моральным превосходством, сделав ее ответственной за нравственную атмосферу в семье и доме.
Поддерживая идеи «республиканского материнства», С. Хейл считала, что миссия женщины – служить примером нравственных и, прежде всего, христианских добродетелей – отнюдь не ограничивалась рамками собственного дома, но, напротив, должна быть направлена и вне его, распространяться на общенациональный дом. С. Хейл считала, что для успешной миссии женщины она непременно должна получать хорошее образование, поскольку, как она отмечала в одной из своих редакционных колонок, «знание – это первый и наиболее значимый элемент власти, это зародыш процветания, это средство всех радостей» [Цит. по: 6, p. 209].
С. Хейл оказывала особое внимание развитию женского литературного творчества. При этом она не только думала о том благотворном влиянии на формирование нравственной атмосферы в обществе, которое могут оказать произведения, написанные женщинами. Для С. Хейл привлечение женщин к писательскому труду был одним из действенных способов расширения сферы деятельности женщины.
Сама Сара Хейл получила признание как писательница после выхода в свет своего первого романа «Нортвуд» (,1827). В предисловии она написала, что «эта книга может быть отнесена к разряду эпохальных в моей жизни», имея ввиду то, что в центре ее внимания – проблема единства нации, построение общего американского дома и предназначение женщины в этих процессах [7, p. iii]. Northwood
Женщина в этом романе, безусловно, становится центральной фигурой в укреплении общенационального дома, она «руководствуется в своих действиях Библией, приносит истинный свет в дом своего мужа – ведет, нежно, но уверенно его и семью к счастью и небесам» [7, p.392].
В романе о жизни одной семьи Новой Англии, в которой смешалась кровь французов, ирландцев, англичан, постулируются важные общественные положения о нации как «единстве во множестве», доме как хранителе политических и религиозных устоев страны, а также вырабатывается концепция Дня Благодарения как общенационального праздника. В этой концепции представлена мысль о сущности молодого государства как о великом христианском доме, где все члены семьи руководствуются принципами религиозной нравственности и гражданской свободы. Хейл подробно описывает, в каком благочестивом и радостном настроении все жители Нортвуда собираются на службу в честь Дня Благодарения, их всех объединяет глубокое чувство благодарности к Господу, давшему им эту замечательную страну.
Сара Хейл убеждена, что Америка – Богом избранная страна, где вырастает могущественная нация, границы которой Господь «распространил во все пределы земли» (Иса, 26:15) [7, p. 86]. Таким образом, С. Хейл утверждает в своем романе идею исключительности и мессианства Америки: «Американская Республика единственная среди всех наций, древнейших и современных, обладает привилегией гражданской и религиозной свободы, и поэтому ее люди должны распространять это благословение по всему миру» [7, p. 397]. В понимании Сары Хейл, таким образом, американские идеи государственности представляются единственно ценными для всего прочего мира. Поскольку при этом границы собственного дома раздвигаются, то соответственно, и миссия женщины расширяется, приобретая глобальный смысл.
Удивительным образом формулировка Сары Хейл прозвучала в одном из самых одиозных провозглашений американской исключительности в речи сенатора Альберта Бевериджа по поводу филиппино-американской войны 9 января 1900 г.: «Из всей нашей человеческой расы Господь выделил американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руководить духовным возрождением мира. Такова Божественная миссия Америки» [4].
Очевидно, что первоначально возникшая идея о правах женщины по мере своего развития получала расширительную трактовку миссии женщины в Америке, постепенно сближаясь с идеями американской исключительности.
Библиографический список:
1. Обращение к нации президента США Джорджа Буша-младшего от 21 января 2004 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20040121/205088.html
2. Abigail Adams to John Adams. March 31, 1776. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.thelizlibrary.org/suffrage/abigail.htm
3. Beecher-Stowe, H. The Minister’s Wooing [Text] / – New York: Derby and Jackson, 1859. – 578 p.
4. Beveridge A.J. In support of an American Empire, Cong., I Sess., pp. 704—712. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ajb72.htm Record, 56
5. Murray J. S. On the Equality of the Sexes //Selected Writings of Judith Sargent Murray [Text]/J.S.Murray. – New York: Oxford University Press, 1995. – 320 p.
6. Finley R. E. The Lady of Godey’s, Sarah Josepha Hale. [Text] / R. E. Finley – Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1931. – 322 p.
7. Hale S. J. Northwood; or, Life North and South: Showing the True Character of both [Text] /. – New York: Long & brother, 1852.. – 408 p.
8. Kerber L. K. Women of the Republic: Intellect and Ideology in Revolutionary America [Text] / S. J. Hale – New York: W. W. Norton & Company, 1986. – 304 p.
9. Klark M. The Role of Republican Motherhood and the Emergence of the Public Woman [Text] / // Women’s Law Caucus. March 2002, Issue 8. P.11—15.
10. Kritzer A.H. Playing With the Republican Motherhood. Self-Representation in Plays by Susanna Haswell Rowson and Judith Sargent Murray [Text] // Early American Literature, Vol. 31, 1996. – P. 150 – 167.
11. TonkovichN. Domesticity with a Difference: The Nonfiction of Catharine Beecher, Sarah J. Hale, Fanny Fern, and Margaret Fuller [Text] / N. Tonkovich. – Jackson, MS: University Press of Mississippi. – 230 p.
Роман Г. Джеймса «Бостонцы» и проблемы феминистского движения в США
СЕЛИТРИНА Т.Л. (Уфа)Осенью 1881 года впервые за семь лет, прошедших со времени отъезда в Европу, Джеймс побывал в США. Американская действительность подсказала ему тему романа «Бостонцы» (1886). После Гражданской войны 1861—1865 гг. проблемы общественной жизни приобрели в США особую остроту. Страна шла по капиталистическому пути со всеми известными последствиями: политической коррупцией, спекулятивной лихорадкой, лоббизмом. Темой романа «Бостонцы» стало феминистское движение 1870-х гг. Писатель считал движение женщин «весьма характерным и специфическим явлением американской общественной жизни». Женское движение в США зародилось в борьбе аболиционистов за отмену рабства.
По мнению исследователей, в течение четверти века два движения – за освобождение рабов и за освобождение женщин питали и укрепляли друг друга. Однако, события, последовавшие за Гражданской войной, раскололи их и начался спад феминистского движения, продолжавшийся почти до конца XIX века.
Джеймс видел, что в 70-х гг. «последние могикане» из числа аболиционистов и феминистов доживали свой век, а эпигонов, пришедших им на смену, более заботил личный успех, чем благо человечества. Перерождение, измельчание женского движения и заставило Джеймса взяться за эту тему. Проблема положения женщин проходит через все творчество писателя. Как и Джордж Элиот, Джеймс считал, что женщины – это «хрупкие сосуды, которые несут через века сокровища истинной человечности».
По мнению Джеймса, подлинной духовной силой и мужеством обладают молодые американки, не связанные с миром бизнеса. Однако, 70-е годы XIX века вошли в историю Америки как эра крушения тех просветительских идеалов, которые легли в основу «американской мечты». «Я задал себе вопрос, что является самой характерной особенностью нашей общественной жизни. Ответ был: угасание чувства пола, положение женщин в обществе и необходимость их самоопределения».
Джеймс видел, что кампания за женское равноправие в 70-е годы в Бостоне являла собой бесконечное пустословие, закат некогда героического века и высоких гуманистических порывов. Джеймс показал, что судьба главной героини Верины Таррент трагически предрешена невозможностью гармонического сочетания личного и общественного в условиях буржуазного общества. Если с образом старейшей общественной деятельницы Бостона мисс Бердсай (в реальности Пибоди) связана тема воздействия человека на историю, то на примере образа Верины показано влияние истории на судьбу человека. Верина – представительница того периода развития общественной жизни Бостона, когда, по словам, писателя «героический век Новой Англии ушел в прошлое».
В романе «Бостонцы» проявилось новое качество Джеймса – умение раскрыть многосторонние связи человека с историческим процессом.
Повседневная жизнь Анны Николаевны Фуругельм в Русской Америке (по ее письмам к матери А. фон Шульц, 1859 —1862 ГГ.)
ЕГОРОВА Ю.С. (Вологда)Письма Анны Фуругельм к матери впервые были введены в научный оборот и опубликованы датской исследовательницей Анни Констанс Кристенсен – преподавателем из университета г. Орхус (Дания) [3]. Книга увидела свет в 2005 году и в ней Анни Кристенсен упомянула, что является правнучкой Анны Фуругельм. В настоящее время письма хранятся в архиве библиотеки университета г. Турку (Або) в Финляндии.
Проблема присутствия и деятельности женщин, преимущественно жен главных правителей, в российских колониях уже являлась предметом исследования некоторых отечественных и зарубежных ученых [4,6,9]. Однако, пока не существует монографического исследования, посвященного жизненному пути Анны Фуругельм – супруги предпоследнего Главного правителя российских колоний на Аляске Йохана Хампуса Фуругельма. Кроме того, ее путешествию и деятельности в российских колониях на Аляске посвящено всего лишь 1—2 статьи.
Между тем письма Анны Николаевны Фуругельм к матери А. фон Шульц могут служить источником не только о ее деятельности в колониях, но также представлять интерес для исследователей, изучающих российские колонии на Аляске во второй половине XIX века с позиций имагологии. Именно в рамках изучения образа «чужого» мы проанализируем некоторые аспекты из повседневной колониальной жизни Анны Николаевны Фуругельм.
Впервые Анна фон Шульц увидела своего мужа на балу в Хельсинки 24 декабря 1858 года. Главным гостем бала являлся Йохан Хампус Фуругельм, или как к нему обращались в России – Иван Васильевич Фуругельм, капитан I ранга. 13 декабря этого же года он был назначен Главным правителем Русской Америки. Вскоре после встречи с Анной Иван Васильевич сделал ей предложение, и она его приняла. Шведская исследовательница Сусанна Рабов-Эдлинг отмечает, что семья Анны была небогата, поэтому такое выгодное замужество для нее было похоже сказку [6]. На наш взгляд, встреча Анны фон Шульц и Йохана Хампуса Фуругельма не была случайным событием. В Санкт-Петербурге Анна и Хампус Фуругельм посетили Адольфа и Маргарет Этолиных. Этот визит означал не только соблюдение правил хорошего тона, дружеский ужин знакомых друг с другом людей, но и деловой разговор. Адольф Карлович Этолин давно находился на службе Российско-американской компании и занимал пост Главного правителя российских колоний с 1840 по 1845 годы.
В нескольких письмах, направленных к матери из Санкт-Петербурга Анна называет Маргарет и Адольфа Этолиных тетей и дядей [5, p.27]. Скорее всего, семьи Этолиных и Шульц состояли в родстве. В свое время Маргарет и Адольф Этолины могли быть в курсе, что И. Х. Фуругельм хочет жениться для того, чтобы направиться на службу в колонии женатым человеком, и представили ему на балу в Хельсинки свою родственницу Анну фон Шульц, поскольку та отвечала «необходимым требованиям».
По мнению Сусанны Рабов-Эдлинг, «Анна была типичной представительницей слабого пола своего времени. Она хотела быть идеальной женой и матерью. Она воплощала в себе такие благодетели как благочестие, чистота, уют и зависимость, что является ключевым для понимания того, что собой представляла „настоящая женщина“ того времени» [6].
В своих письмах Анна признается матери, что бесконечно рада, став избранницей И. В. Фуругельма. Единственная мысль, которая ее тревожит, заключается в том, что однажды ее муж может обнаружить, что она не соответствует тому идеальному образу, который нарисовал в своем воображении Хампус Фуругельм. Обо всех своих тревогах Анна Николаевна пишет только самому близкому человеку – своей матери: «Разочаруется ли когда-либо во мне Хампус? Я буду совершенно несчастна, если он увидит, что я совсем не соответствую его идеалу.Но я молю Бога так искренне, что это может никогда не произойти… Еще одна вещь, которая меня пугает, это то, что он услышал слишком много хорошего про меня. Он слышал, как меня хвалили и хвалили совершенно незаслуженно. Станет ли для него неприятным открытием, если он увидит, как я ошибусь! Он хорошо знает все мои недостатки. Конечно, он никогда не думал, что я совершеннее других… О! как счастлива я была бы, если бы могла соответствовать его идеалу» [7, p.33].
В июле 1859 года Анна впервые увидела столицу Русской Америки Ситку, где ей предстояло прожить более 5 лет и родить пятерых детей. На некоторые факты из колониального периода жизни Анны Фуругельм обратила внимание исследовательница А. Кристенсен. Так, она отмечает, что «на Ситке Анна занимается домом, присматривает за садом и готовится к рождению первенца. У Анны как хозяйки большого дома много забот. Это не только заботы о доме главного правителя, в котором ежедневно кормят человек до 20, а это еще и заботы о школе, о необходимости периодически выходить в свет и др. Досуг оба супруга посвящают чтению и музыке. Еще в Дрездене Анна купила ноты симфонии Бетховена, три симфонии Моцарта, Шопена и Шумана. Супруги читают книги по истории, вопросам брака и воспитанию детей. Анна дружит с княгиней А. И. Максутовой, женой будущего последнего главного правителя Русской Америки Ивана Васильевича Максутова» [2, с.197].
Одно обстоятельство, сильно взволновавшее Анну Николаевну, мы обнаруживаем на страницах нескольких ее писем. Связано оно было с приездом на Аляску государственной инспекции, возглавляемой действительным статским советником С. А. Костливцовым и капитаном П. Н. Головниным. 9 октября 1860 г. Анна написала матери письмо, в котором с тревогой сообщала о предстоящем визите в колонии государственных инспекторов. Их приезд не только означал, что Анна Николаевна вскоре будет совсем редко видеть своего мужа дома, но и способствовал наступлению изменений в привычном образе жизни.
Так, изменения должны были коснуться бытовых условий жизни семьи Фуругельмов. Анна сообщает матери, что статскому советнику в их доме придется выделить 2 комнаты [1, с. 345]. «Голубая гостиная должна будет служить ему кабинетом, а кабинет Хампуса спальней» [1, С.345]. Из писем также узнаем, что кабинет требовал косметического ремонта и Анна делится с матерью своими тревогами по поводу возможных материальных расходов: «мы должны были оклеить его обоями, покрасить и отремонтировать. Шьются шторы для семи окон, на пол будет сделан темно-синий ковер из ткани и с нижнего этажа будет поднята наверх часть нашей мебели» [1, с.345]. Несмотря на то, что инспекторы в целом остались довольны деятельностью И. В. Фуругельма на посту Главного правителя, письма его жены свидетельствуют о том, что присутствие инспекторов в колониях сильно нервировало супругов, и вносило дополнительные неудобства в ставший уже привычным образ жизни.
Интересно отношение Анны Николаевны к проблеме взяточничества и другим явлениям российской бюрократической системы второй половины XIX века. Анна Фуругельм, конечно, не знала ничего о механизме российской бюрократической машины, так как Россия для нее ограничивалась лишь несколькими городами, в которых она была проездом и Ситкой, где эта система проявилась в весьма причудливом виде. Между тем, некоторые колониальные порядки ей совсем не нравились, о чем она спешит написать матери: «зерно, которое мы получаем на корм курам, и испорченную муку на корм свиньям заносили в бухгалтерские книги как предназначавшиеся работникам и т. д. и т. п. Но мой Хампус не мог выносить обмана и написал домой Этолину с просьбой сообщить ему, какие вещи он имеет право приобретать за счет Компании» [1, с.362]. С сожалением Анна Николаевна упоминает о своем дяде Константине, который «брал везде, где только мог, так как все знают, что он не смог бы прожить на одну зарплату» [1, с.362].
Еще одна проблема, которая заслуживает внимания – это отношение Анны Николаевны к православным священникам и православной вере. Супруги Фуругельм исповедовали лютеранскую веру, причем Анна Николаевна была очень набожной. Видимо поэтому она обращала внимание на особенности богослужения и другие стороны обрядности, совершаемые в православных храмах. Так, она делится с матерью впечатлениями о том, как все православное население Ситки устремляется в храмы с наступлением Пасхи: «этот день, состоящий из беспорядков, шума, еды и напитков, излишней помпезности и показухи и суеты в церкви! Звона и перезвона колоколов… О!!! как я хочу, тихий, спокойный день Пасхи, где эта внешняя суета и сумятица не побеспокоит и не отвлекает от собственных мыслей» [8, p.239]. Особое отношение у Анны Николаевны сложилось к православным священникам. Так, она отмечает, что местное население Аляски, несмотря на большое число православных священников, пребывает в язычестве. Она отмечает, что многие туземцы ходят на причастие лишь для проформы и не понимают смысла евангелия [1, с. 363].
Анна Николаевна Фуругельм не оставила заметного следа в российской колониальной жизни. Она не любила светские мероприятия, была стеснительна и предпочитала активной деятельности в колониях заниматься своей семьей. Вместе с тем ее письма, которые отчасти напоминают личный дневник, позволяют взглянуть на происходящие в российских колониях события глазами европейской глубоко религиозной женщины. Письма Анны Фуругельм являются ценным источником, позволяющим отчасти реконструировать элементы быта и повседневные практики российских колонистов на Аляске второй половины XIX века.
Библиографический список:
1.Из письма А. Н. Фуругельм матери А. К. фон Шульц об ожидаемом приезде в Ново-Архангельск ревизоров С. А. Костливцева и П. Н. Головина. [Перевод] // Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского севера, 1841 – 1867: сб. док. / [сост. Т. С. Федорова, А. Ю. Петров, А. В. Гринев; отв. ред. А. Ю. Петров]; Отд-ние ист.-филол. Наук РАН; Рос. гос. архив военно-морского флота. – М.: Наука, 2010. – С.345.
2.Кристенсен А. Анна Николаевна и Иван Васильевич Фуругельм в Русской Америке // Русская Америка и Дальний Восток (конец XVIII в. – 1867 г.). К 200-летию образования Российско-Американской компании. Материалы междунар. науч. конф. (Владивосток, 11—13 октября 1999 г.) / отв. ред. А. Р. Артемьев. – Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии народов Востока ДВО РАН, 2001. – С. 197.
3.Letters from the Governor’s Wife: A View of Russian Alaska 1859—1862./ ed. by Annie Christensen. [pdf] 2006. – 275.
4.Maria Enckell, «Four North European Female Educators’ Toil in Russian Alaska, 1805—1849», FEEFHS Journal, Vol., XI, 2003, – pp. 88—103
5.№3 Petersburg. Sunday Ev [enin] g February 6. 1859 // Letters from the Governor’s Wife: A View of Russian Alaska 1859—1862./ ed. by Annie Christensen. [pdf] 2006. – P.27.
6. Susanna Rabow-Edling From one imperial periphery to another: The experiences of a governor’s wife in Russian Alaska [text of the paper] / Susanna Rabow-Edling. – Режим доступа: https://goo.gl/vMSP6r
7. №6 S [ain] t Petersburg. Feb [ruary] 13th 1859 Sunday night 11. o’clock//Letters from the Governor’s Wife: A View of Russian Alaska 1859—1862./ ed. by Annie Christensen. [pdf] 2006.– P.33.
8.№49. Sitka. March 14/26 1862.// Letters from the Governor’s Wife: A View of Russian Alaska 1859—1862./ ed. by Annie Christensen. [pdf] 2006. – P.239.
9.Федорова Т. С Роль женщин в развитии культуры в Русской Америке [Электронный ресурс] / Т. С. Федорова. – Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/02_25.html .
Образ женственности: Бетти Фридан о предназначении женщины в американском обществе
. (Архангельск) КИСЛЫХ О. ВОдной из тех, кто первым публично заговорил о проблеме дискриминации по половому признаку на новом витке феминистского движения в США, была Бетти Фридан. Именно эта женщина в Америке в 60-е гг. ХХ в. подняла проблему равенства среди мужчин и женщин на новый теоретический уровень.
Бетти Фридан – общественный деятель, популярная американская писательница, профессор, основательница Национальной организации женщин США (National Organization for Women). Ее заслуженно считают самой влиятельной феминистской послевоенной эпохи.
В Америке период 60 – 70-х гг. был временем социальных потрясений в стране, когда студенческие, антивоенные выступления, борьба расовых и этнических групп за гражданские права определяли политический климат [2, с. 12]. Исследователи, политики и журналисты единодушны в том, что неожиданно массовая социальная активность женщин произвела своего рода социальную и культурную революцию в западном мире, кардинально повлияв на систему гендерных отношений.
В 1963 г. выходит книга «Мистика женственности» Бетти Фридан, которая станет самой известной из всех ее работ. Это произведение, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы, выдержало более десяти переизданий и разошлось миллионными тиражами. Книга была написана как протест против работодателей, которые, как пишет Фридан, «выкинули ее за дверь», после того, как она подала заявление на отпуск по беременности и родам [4]. Это была, конечно, не первая серьезная публикация в мире на данную тему. Так, например, в 1949 г., была выпущена книга француженки Симоны де Бовуар «Второй пол», где впервые была поставлена проблема подавления феминного. Однако среди простых американских домохозяек эта работа не вызвала большого интереса.
«Мистика женственности» – книга, которая стала первым в стране серьезным социологическим исследованием того социального явления, которое превалировало в послевоенной Америке и шло под лозунгами «обратно к дому» или «назад к семье». Так, в конце 50-х гг. многочисленные женские журналы, реклама, телевидение убеждали, что представительницы среднего класса смогли добиться «женской американской мечты»: преуспевающий и заботливый муж, здоровые дети, дом в пригороде, автомобиль, красивая одежда, которую можно демонстрировать на вечеринках и благотворительных собраниях.
Пользуясь традиционными формулировками или замысловатыми понятиями фрейдизма, женщинам без устали повторяли, что они не могут желать себе лучшей судьбы, чем прославления собственной женственности [2, с. 15]. Специалисты им объясняли, как завлечь мужчину и удержать его, как кормить детей грудью, как купить посудомоечную машину, печь хлеб, как одеваться, как выглядеть и вести себя женственно. Их приучали жалеть невротичных, неженственных, несчастных женщин, которые хотят стать поэтами, физиками или президентами. Их научили, что женщинам, обладающим истинной женственностью, не нужна карьера, им не нужно высшее образование и политические права – одним словом, им не нужны независимость и возможности, за которые когда-то боролись старомодные феминистки. Именно такое понимание женственности становится объектом критики Б. Фридан. «Женственность, – доказывает она, – понятие несуществующее, выдумка мужчин. Этим термином прикрываются, чтобы оправдать женское неравенство, выключенность женщины из социально-культурной жизни. Строго говоря, женственности, и даже больше – женщины вообще нет: есть человек женского пола. И в мужской культуре этот человек человеком вообще не признается – просто считается носителем некой таинственной «женственности» [1, с. 44]. Тысячи специалистов в те годы с воодушевлением приветствовали женственность до мозга костей. Все, что требуется от женщин, – это с раннего девичества посвятить себя поискам мужа и рождению детей. Пропаганда женственности доводила до абсурдных поступков [4, с. 4]. Б. Фридан приводит пример, как у одной женщины в нью-йоркской больнице произошел нервный срыв, когда она узнала, что не может кормить новорожденного грудью. В других больницах женщины, умирающие от рака, отказывались принимать лекарства, которые, как доказали исследования, могли спасти их жизнь: считалось, что побочный эффект убивает женственность.

