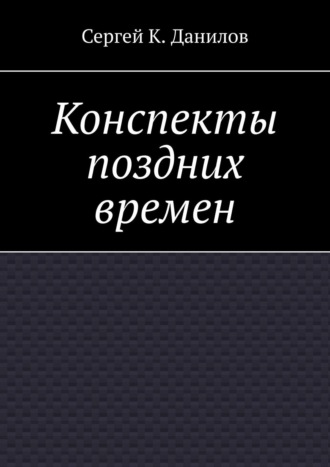
Полная версия
Конспекты поздних времен
– Ясно, – сочувственно произнёс Макс, – бывает и хуже, но реже, – после чего проглотил скользкий пельмень, не пытаясь даже для вида разжевать.
– Мне вдруг на днях учиться захотелось ни с того, ни с сего. По молодости не было особенного желания, а теперь вынь да положи, в мозгах аж зудит – так читать хочется.
– Читай фантастику. Или детективы. Кстати, у меня есть томик Чейза где-то, хочешь?
– Нет, не интересно. Вот физика, математика – другое дело. Зудит просто, – повторил он огорченно, понимая, что говорит глупости. – После техникума двадцать с лишним лет прошло, ничего не помню. Что-то происходит с головой, болит собака так, что кажется весь мир рушится вокруг. Врачам своим говорю – смеются, думают, на психу заворачиваю. Да на психу мне и самому не хочется, с ними только свяжись, в жёлтом доме разок полежи-отдохни, потом до самой пенсии никуда на работу не возьмут.
– В шахматы сильно играешь, – решил поднять настроение бывшего грузчика Макс.
– В шахматы я кого хочешь обставлю. Цифал поможет, любит он людишек до истерики доводить. Я чувствую, меня к книгам научным он и посылает, хочет что-то там посмотреть. Надо мне книги почитать самые-самые научные, с переднего нынешнего научного края. Отыщи мне такие, а я на спор у любого в шахматы выиграю.
– Так уж и у любого, – усмехнулся Макс, припоминая, где он слышал про Або Цифала.
– Давай, если на спор выиграю у любого, на кого укажешь, то поможешь мне?
Макс как раз доел булочку и допил кисель. Душа его переполнилась благодарностью.
– Хорошо, сдаём посуду и идём в бассейн «Труд».
– Плавать будешь?
– Нет, нынче в нём располагается шахматный клуб. А, кстати, кто такой Цифал?
– У меня в голове поселился, барабашка с того света. Чего так смотришь? Мне и самому удивительно.
ГЛАВА 5
Когда молодежь убралась в сад, Або кряхтя вылез из-под кровати, вытащил за собой подушку и свалился поверх сбуровленной постели, не включив гробушника. Через минуту он храпел задрав клочкастую бородёнку к потолку, отправив соматическую сигнатуру в путешествие по Вселенной. Уже какую ночь подряд Цифал не проводил сеанса восстановления, ни тем более омоложения. Рисковал, конечно, но сигнатура позарез требовалась для путешествий.
К слову сказать, термином «сигнатура» из учебника профессора Щура, которое никак не мог припомнить студент Криницын, с единственной добавкой прилагательного «соматическая», называлась первичная оболочка души, которой клоны научились управлять. Именно она, соматическая сигнатура подвергалась исправлению во время сеансов лечебного сна всех клонов, за исключением тех, кого называли трудоголиками. Цифал предпочитал и во сне трудиться, а не лечиться.
С точки зрения молодых людей старик совершенно безобразно храпел, валяясь поперёк гробушника, в то время как его сигнатура унеслась на встречу с сигнатурой одного из самых пожилых учителей Або – Петровича, недавно решившего скончаться по семейным обстоятельствам. Всем хорошо известно, насколько душа становится общительной и энергичной после кончины физического тела, какое огромное число встреч она проводит с бывшими друзьями, коллегами, родственниками перед своим окончательным распадом, местами здорово досаждая им, принося нервные расстройства.
Как водится, сигнатуры Або и Петровича неслись в орто-направлениях, при которых удобнее всего поддерживать беседу, потому что с одной стороны чувствуешь близкий локоть товарища, будто прогуливаешься с ним в осеннем парке, ведя неспешный разговор, по усыпанным багрово-жёлтыми кленовыми листьями мокрой дорожке под одним зонтом, а с другой стороны при таких условиях скалярные помехи, шумы, и недопонимания общего уровня практически равны нулю.
– Хулиганим помаленьку? – усмехался Петрович. – Громим Вселенную? Бога Живаго не почитаем?
– Я? Да ни в жисть! Ни сном не ведаю, ни духом не знаю.
– Не ёрничай. Кто галактику МХ-1563 в пыль стёр, изобразив взрыв сверхновой? Ладно, отмолил тебя в синклите, прощён в последний раз. Отныне в игру решено ставить самую интересную, и назначен ты переводчиком Книги Судеб, созрел юноша для бранных дел. Прямо сейчас этим и займёмся… если, конечно, никто не помешает… У, черти полосатые!
В пространстве обитания сигнатур возник белый луч, осветивший широкую спину Петровича, одетого в старую ватную телогрейку. В переселенческом поселке дядя Бодаев был известен как большой специалист по качеству древесины, сорта определял, постучав по кедре костяшками пальцев.
Прожектора с вышки фильтровали возвращающуюся из лесу колонну, в его белом молниевом свете виден был в морозном воздухе пар дыхания над колонной, передние уже приготовились для шмона.
Было восемь вечера, в тайге зимой тёмная ночь, охранники начали досмотр колонны при входе в поселок. Луч прожектора перескочил со спины Петровича на Або.
– Повернись к ним спиной, – сквозь зубы сказал Бодаев дочери.
Ей было девять лет, тонкая, высокая, голенастая, вся в покойницу мать, работала на лесоповале сучкорубом в одной бригаде с отцом. На ней старая бабкина шубейка, слишком широкая, охваченная пеньковой веревочкой, платок и валенки взрослого размера, за широкие голяшки приходилось наталкивать сухой мох, чтобы не хлопали при ходьбе, и за отвороты не засыпался снег.
Верка отвернулась.
– Вот вам подтверждение удивительного опыта, – сказал сотрудник института краснощёкому корреспонденту телевидения, – при разрушении частицы образовалось два фотона, которые разлетелись в разные стороны Вселенной.
Наблюдатель снимает данные с одного фотона, например, проецирует на ось Х. Возможно сделать на ось Х, можно на ось У, но, допустим, он предпочёл ось Х. Тогда с другого фотона можно сделать проекцию тоже только на ось Х! Представляете, этот другой фотон как бы не позволяет наблюдателю снять показания на ось Y. Получается, что он «узнал», что произошло с первым фотоном в другой части Вселенной, причём как-то получил эту информацию со скоростью во много раз превышающую скорость света. На этом принципе «сцепленности родственных фотонов» и будет строиться поколение новых компьютеров.
– А как же общая теория относительности Эйнштейна?
– А никак.
Поведение тяти Верка не одобряла.
Сегодня они несли в поселок гостинец мачехе и малым сёстрам, её детям, несколько кедровых полупустых шишек, которые тятя напихал в пимы. Для этого пришлось специально встать в отряде последними, надеясь, что охрана устанет, замёрзнет и не заставит их разуваться. Конечно, шишки вам не нож и не ружье, однако всякое может случиться, примеров было достаточно. Могут припаять статью за подготовку побега: скажут, что продукт накапливают и всё тут, поди отопрись тогда.
На лесоповал семейство угодило за небольшую провинность на три года: тятя отругал комиссаршу, прибывшую в составе Тройки организовывать в деревне никому не ведомую коммуну, в которой всем полагается жить вместе.
Комиссарша ходила в чёрной кожаной куртке, чёрной юбке и высоких армейских ботинках со шнуровкой, держала на поясе в деревянной кобуре наган, в петлице кумачовый цветок.
Пашка Мишин обращался к ней восторженно-официально: товарищ Роза. Лицом бела, а волосом и глазами – иссиня черна, волос кручёный, какой и у цыганок не часто бывает, голосом тоже наособицу, даже бабы исходя руганью на городском базаре, визжали менее противно, а комиссарша будто иначе и говорить не умела: вела высоко и пронзительно, словно ругалась. Или ещё похоже на то, что собиралась рожать, а этого никто вокруг не понимал, не спешил ей помогать и не грел воды.
Когда в селе объявили сход, народ сошёлся.
Мужики встали, как полагается, спереди, бабы сзади, а ребятишки держались в сторонке. Все три комиссара поднялись на срочно сбитый из свежих досок помост, дабы возвыситься над массами, но кричать почему-то взялась товарищ Роза. С первых слов про народную власть, которая знает, как надо жить крестьянину, мужики попятились и тревожно наморщили лбы.
Изъяснялась она вроде по-русски, однако чужими, непонятными словами и мало что можно было в её речи разобрать. То, что доходило до сознания, определенно грозило большими неприятностями. Она постоянно цикала: ВЦИК. ВЦИК, ВЦИК, будто сплевывала сквозь щербатый передний зуб.
– Значит немцы нас завоевали, – оглянувшись к народу, выразил общее впечатление дед Нечай.
С ним согласились. Потому что, судя по повадке, комиссары были не православные, хотя и власти, а нехристи, лба ни один не перекрестил. Пришедшие с комиссарами молчаливые солдаты говорили меж собою негромко, на отрывистом непонятном языке.
Однако, что теперь? Власть есть власть, пусть чужеземной вдруг стала, а всё ж против ходить не гоже, в Писании так сказано. С другой стороны, шибко лоб разбивать никто не спешил. Коли новоявленная власть собирает народ в общую коммуну жить, и со скотом и с бабами, Карлой Марксой и Кларой Цеткин, то пускай себе идёт туда кто хочет, а мы в сторонке постоим, посмотрим.
Бывалому человеку с первого взгляда ясно, что товарищ Роза живёт с бравым комиссаром, что стоит слева, чуть сзади, спокойно, ласково и по хозяйски прикрывая женский тыл, а второй сутулый, невзрачный и, видно, сильно битый судьбой, жадно засмотрелся ей в рот, где чувственно и призывно трепещет розовый язык. С ним товарищ Роза покуда только целовалась на глазах у всей деревни.
Верно, баба-комиссар не знает толком, с кем ей нынче лечь, и это её страшно волнует, оттого она голосит, нервничает: хочет с двумя сразу, или всей деревней в коммуну объединённой залечь почивать, как того требует из столицы неведомый грозный ВЦИК.
Странно деревенским и непонятно, почему бабу вперёд выставили кричать-лаяться, будто волкодава с цепи спустили, когда комиссары-мужики должны были сами новую власть объявить. Уж коли в столице царя скинули, и другое отныне мироустройство пойдёт, с чужеземным говором. Баба царства не построит. Никто против новой власти не роптал, хотя уже говорили, что видно немец в войне верх забрал и свои порядки пришёл устанавливать.
Что делать прикажете, коли по слухам фронты с немцами замирились, а потом и вовсе разбежались, кто куда хотел, а царь от власти по немощи духовной отказался, устыдился, значит, править. За грехи царей всегда народ страдает.
Пахарь против власти не ходок. Власть – она для него не своя и не чужая, власть она и есть власть, тело от общества инородное. До бога высоко, до царя далеко. Зачем вот только беспутной бабе кричать дали – непонятно, это всех раздражало. Баба не должна властвовать, и не по уставу, и не к добру.
Бодаёв высказался громко: «Ну, мужики, ладно, пусть свои порядок устанавливают, раз государство сменилось, коммуна там, не коммуна, поживём – увидим, а эта бл… куда лезет?»
Верка слышала и видела, что произошло. У тяти вечно, как у пьяного, что на уме, то и на языке.
В результате контрреволюционного заговора в тот же день у них отобрали коня Карьку, корову, дом, всё хозяйство полностью, усадили семейство на телегу и под молчаливыми чужестранными штыками, заполонившими деревню, свезли на пристань, а оттуда отправили согласно решения той революционной Тройки в дальнюю дорогу на лесоповал.
Их первыми, а потом остальных по порядку. Деревенский беспутный активист Пашка Мишин утащил в пользу сельского пролетариата мамин сундук. Мамино приданое, с которым она выходила замуж за тятю из своей деревни, и после её смерти оставшийся годовалой дочке. Сиротский сундук.
Бабка кричала: «Сиротский сундук-то хоть не трогайте». Какое там. Унесли вместе с сарафанами, вышивками и запахом мамы.
Далее всю деревню понемногу, помаленьку, за разные провинности, по излишнему наличию в хозяйствах лошадей и коров, выслали на спецпоселение в болота Нарыма. Бодаёвы того уже не видели, после узнали, и поняли, что им, оказывается, ещё относительно повезло. Как уголовников их всего на три года с лишением имущества сослали, а прочих в качестве злостного кулацкого отродья и классово – чуждого элемента навсегда изгнали с родной стороны на болотные кочки, на смерть от болезней, голода и холода.
Луч-прожектор погас. Собаки перестали хрипеть.
– Чего ты, Абушка, здесь наредактировал, голова садовая? Откуда брусчатка с каменными бараками в Нарыме в 1930 году?
Петрович быстро восстановил прежний текст. Вместо прожекторов сияла в морозной черноте полная луна, по обе стороны от тропы зеленоватые в её свете сугробы, дальше непроглядная темень леса.
– Откуда виселица? Чай не Германия. Здесь народ безымянно гибнет миллионами, надсажаясь непосильным трудом, холодом и голодом среди сугробов да болот. И без проволоки по тайге не убежишь, ни зимой, ни летом. И куда мужик побежит, бросив семью и детей? Вместо бараков – сырые землянки. Никаких столовых и норм хлеба по едокам. Без ничего людей сбросили с плота. Питание – чем бог пошлёт: клюква, что насобирали, корешки, да кора деревьев.
– Ну и фиг с ними. Что нам лимитчиков не хватает, что ли? Люди плодливые, ещё народят.
– Я тебе объективную реальность читать помогаю, разве одно шоу смехотворное повсеместно должно быть? Не синхронизируй с хрониками Голливуда. Саму Книгу Судеб космоса читай. Здесь правда о том, как народ доисторический уничтожался, наши предки, как-никак. Совесть-то научную надо иметь. Истинное чудо, что Космос память хранит. Божеское дело, не иначе.
«Какую такую совесть? Я клон в натуре без комплексов, а не человечишко ледащенький…».
– Почему лиц ни у деревенских ни у ссыльных нет, что за кино? Такое шоу мне неинтересно.
– Книга потому что Судеб, а не видеоинформация. Записки, конспекты Бога Живаго. Кто-то ему устно поведал, а он записал.
– Бог пишет? И кто ему, Богу Всевышнему нашему единому и абсолютному может рассказывать?
– То-то и дорого, что Бог записал, чтобы мы сумели прочесть перед своим концом, поняли важное да спастись успели, воспользовавшись сими конспектами.
– Прости, милый, – заголосила сигнатура ученика Або, – прости Мессии нашего ради. Без шоу жить ужас как обрыдло, подрисовал маленько. Мы же с тобой живые клоны по крови. Дай стопу лобызну, не гневайся на дебила превеликого, дозволь расцеловать, любезного Учителя, вымолить прощение. Каюсь, Петрович, падаю ниц, рву на лысой глупой башке последние волоски, сыплю пепел дальних галактик, пусть будут язвы, грешен, грешен перед тобой и Богом Живым! – сигнатура Або металась между созвездий, разыскивая пепел поядовитей для головы спящего где-то Цифала.
– Окстись, Абушка. Аккуратнее начало отсчета выбирай, когда по каналу вселенской памяти несёшься, веди себя спокойно, ты игрок-исследователь в первую голову, а потом уже клон.
Або догадывался, что Петрович является членом секты Живого Бога, из новых пантеистов, почитавших всю Вселенную за того самого Бога единого, да к тому же по счастью и Живого нынче. Многие уверовали в Бога накануне светопреставления, хочется им спасения души да вечной жизни. Фигу вам с дрыгой! Как прирождённый космический хакер, Цифал знал: всё, что подвергается корректировке не может быть божественным. Ибо Бог – абсолют, ни в коем случае не познаваемый клоном. Вселенная же корректировалась запросто, большого ума для этого не требовалось, исключительно концентрация силы воли. Нет, Космос – не Бог, хотя и живой организм, и миллионы звезд и галактик – нейроны вселенской психики, схожей с его, Або, психикой. Огромное животное бесконечных размеров, которое надо распознать, завоевать и научиться им управлять в собственных интересах! Его домашнее животное – вот что есть их Вселенная! Пусть будет у Або на посылках!
Хоть Петрович и учителем был, но излишне верующий, нет в нём настоящей боевой хватки, после смерти и вовсе раскис, когда одна сигнатура осталась без поддержки тела. А не воспользоваться ли нам гипотезой вирусного заражения умницы Амадея? Обнимем да расцелуем, вдруг сдохнет? Эксперимента ради Або кинулся на сближение и контакт с Петровичем, осыпая троекратными поцелуями с причмокиванием и лобызанием. Сигнатура Петровича скоро перешла на шёпот: « Это особенное место, я его искал много лет, вычислил недавно, отсюда продолжишь работу». Або сплюнул, досадуя. Космос, великий Космос, оказывается, пишет в своей Книге о примитивных крестьянах, живших вне шоу-культуры, а вовсе не о лучших людях, не о великих умах – мудрецах, не полководцах или государственных деятелях, что полагалось бы в первую очередь содержать Книге Судеб. На что нам сдались таёжные мужики? Где о нас, о клонах? Очередной плевок на самолюбие великой, гибнущей цивилизации!
Только-только сформировали национальную доктрину, выяснили к общей радости дебилов, что Космос – существо разумное, возможно и есть Бог Живой явившийся во всей красе безгрешным клонам, многие поверили, что Он, несмотря на грозящую опасность уничтожения в чёрном огне костров квинтэссенции, даст им избавление в последнюю минуту, раз есть Живой и Всеобъемлющий! Содержащий их в Себе, и знающий о них, своих детях! Так на тебе, оказывается про клонов Божество и думать не хочет. Какое-то отсталое ветхозаветное существо получается, даже про самое наиважнейшее, про Мессию в нём понятия нет. Но возможно далее откроются двери в главное, со временем суть прояснится? Если конечно, хватит у них того времени.
– А о нас есть хоть что-нибудь? Читал? – потыркал Петровича, выведывая последние знания у гибнущей сигнатуры, которая не имела права лгать в столь ответственный момент.
– Пока… только о людях. Со временем…
Сигнатура Петровича с тихим шелестом исчезла, обронив в окружающее пространство полупрозрачные лепестки, напоминающие высушенные крылышки стрекоз, которые, крутясь вокруг своей оси, разлетались по округе, быстро исчезая из вида.
ГЛАВА 6
Городской шахматный клуб представлял из себя длинную, узкую, пыльную комнату, в которой у одной стены располагались сдвинутые в ряд столы. За столами напротив друг друга сидели молчаливые трезвые мужчины разных возрастов глядя на доски с фигурами, и после каждого хода громко, с размаха стучали по кнопкам шахматных часов. Те, кто не играли, молча стояли рядом наблюдая. Комментировать партии во время игры запрещалось уставом клуба.
Егоров надменно осмотрел публику и произнес, обращаясь к Криницыну:
– Я тебе сейчас наглядно покажу, кто такой есть барабашка – Або Цифал!
– Ради бога, не выпендривайся, – успел шепнуть ему Макс.
– Товарищи, внимание! – не реагируя на шепот в спину, громко и развязно обратился любитель точных наук к присутствующим. – Я тут по случаю, так сказать проездом, и хотел бы сыграть партийку с вашим местным сильнейшим шахматистом. Могу на интерес, могу бесплатно. Моя фамилия Егоров. Со мной секундант, прошу любить и жаловать.
И вытолкнул Макса перед собой. Так некстати оказавшись на всеобщем обозрении шахматной общественности, Макс вдруг заметил в углу профессора Щура, отчего давно нестриженные волосы на глупой голове зашевелились сами собой. Профессор был в обычном костюме с лоснящимися локтями, в котором он и лекции читал. Мизерные за толстыми стеклами черепаховых очков глаза глядели на Макса без всякого выражения. «Кажется, не узнал, – отлегло от сердца в первый миг, но тут же Криницын понял: – Завтра точно узнает!».
Присутствующие восприняли явление Егорова без должного энтузиазма. Некоторые наглые личности и вовсе не соизволили оторвать глаз от своих облезлых деревянных фигур: как сидели, так и остались сидеть, может чуть поморщились, тем более, что по соседству с бассейном «Труд», в котором ютился клуб любителей древней игры, располагался летний городской сад с колесом обозрения, качелями и многочисленными жёлтыми бочками пива вдоль главной аллеи. И в том замечательном городском саду с посетителями частенько случалась обычная оказия, что у них на самом интересном месте заканчивались финансы, после чего некоторые, особо сообразительные, забегали к шахматистам в надежде сыгрануть партийку-другую на деньги, дабы восстановить свои покупательные способности.
Чувствуя, что объявление не произвело нужного фурора, бывший инвалид решительно повысил ставки:
– Я забыл сказать, между прочим, моё спортивное звание – гроссмейстер!
Тут уж все без исключения посмотрели на новоявленного гроссмейстера и ощутимо вздохнули. Вошедший был коренаст, имел мозолистые клешни, проблесков высшего интеллекта не читалось в требовательных рыжих глазах. Более всего он как раз соответствовал портрету среднестатистического посетителя горсада, который приняв некоторую дозу, вошёл в раж, но дефицит наличности сильно мешал дальнейшему весёлому времяпровождению. Вахтера клуб не имел, посему худосочным шахматистам приходилось самим держать оборону.
– Проходите сюда, гроссмейстер, – раздался скрипучий голос Щура. – Я кандидат в мастера. Может быть, Левинсон подойдёт сегодня, но пока его нет. Левинсон – чемпион области. Лучшего, уважаемый гроссмейстер, на сегодняшний день, мы вам предложить вряд ли сможем. Предупреждаю сразу: на деньги у нас в клубе играть запрещено. Если согласны просто так, милости прошу за мой столик.
– У меня просто руки чешутся, – сказал Егоров. – Я нынче в такой форме, что самому Каспарову в два счёта надрал бы уши.
– Не люблю сослагательных наклонений, – буркнул Щур, которому достались белые фигуры.
Егоров наконец угомонился, расселся поудобнее, и быстро задвигал пешки, почти не глядя на доску, зато свойски подмигивая Криницыну, который, стараясь не афишировать себя, скромно держался в сторонке, поворачиваясь к Щуру исключительно профилем с затылочной стороны. Щур также быстро отвечал поначалу, затем вдруг надолго задумался и на тридцатом ходу сдал безнадёжную позицию, что вызвало у присутствующих лёгкий шок.
– Видал, как я кандидата разделал? – громко спросил Егоров Макса. – Как бог черепаху. А ты не верил. Иди теперь, смотри.
– Ладно, ладно, верю. Пойдём отсюда, – пробормотал Макс, жалобно оглядываясь на спасительную дверь.
– Нет, вижу, что не веришь, Фома ты неверующий. Эх, раз такое дело…
Тем временем любители древнейшей игры повскакали из-за столиков, все как один столпились вокруг ошеломлённого быстрым проигрышем профессора, разбирая партию, громко заспорили друг с другом. Ни Егоров, ни Макс не понимали из-за чего разгорелся такой сыр-бор, надсадно морщили лбы и помалкивали, причём Макс нацелился сматываться независимо от желания бывшего грузчика, и даже успел сделать три незаметных шажка в сторону заветной двери. Его придержал за руку лохматый очкарик:
– Он действительно гроссмейстер? Может быть, международный мастер, а?
На что Криницын лишь снисходительно улыбнулся. Очкарик отошёл на цыпочках. Как-то весьма скоро прибежал чемпион области Левинсон, у которого оказались большие, розовые, смешные для чемпиона уши, а лицо напоминало добрый сибирский пельмень. Он приветливо улыбался.
– Здравствуйте. Левинсон. Буду рад сыграть с вами, гроссмейстер.
– Нет, – отказался Егоров, – не пойдёт такая канитель.
– Как нет? – с гомотопической простотой пельмень преобразовался в недоуменный вареник. – Позвольте… меня же специально для этого вызвали с кафедры по телефону. Или ваши планы… э… изменились?
– Точно. Изменились. Играю один против всех, не глядя на доски.
– Да у нас тут всего досок двадцать и наберётся, – ехидно заметил лохматый очкарик.
– Чего с вас взять, команды голоштанной. Двадцать, так двадцать, сеанс бесплатный, – нагловато усмехаясь, отбрил Сёма шахматную интеллигенцию.
– Не знаю, не знаю, – пробормотал Левинсон. – Что-то мне не верится, здесь всё-таки вам не Васюки. У меня большое сомнение… и фамилия ваша в рейтинговых списках не значится… Очень большое сомнение. Пожалуй, на подобных условиях я играть не буду. Я воздержусь.
Шахматный мир города воззрил на профессора Щура, который расставил фигуры и вежливо поинтересовался:
– Ваш ход, гроссмейстер?
– Е2-Е4, – гаркнул Егоров.
Прочие тут же бросились занимать столы, чуть не сшибив с ног Левинсона, спешно расставлять на досках фигуры. Чемпион области нервно ходил кругами по комнате, ускоряя движение. Потом вдруг набросился коршуном на случайного мальчишку, возмечтавшего сразиться с приезжим гроссмейстером, зашипел гусаком, выкинул за вихор и уселся играть на его место под номером семнадцатым.
– Лекцию читать будете о развитии шахматной идеи? – полюбопытствовал всё тот же дотошный лохматый очкарик.
Егоров стоял лицом к окну, скрестив руки на груди, в любимой позе знаменитого корсиканца перед очередной битвой за передел мира, спиной к аудитории, страстно жаждущей его крови.
– Какая доска?
– Седьмая, гроссмейстер.
– Седьмая доска получит мат на… тридцать седьмом ходу, – объявил Семён Егоров, не повернув головы.
Макс увидел, как лохматый и Левинсон быстро поменялись местами. Но ничего не сказал, ему стало интересно. Через два часа шахматные сливки города были отвратительно и безжалостно смешаны с бытовыми отходами. Мастер спорта Левинсон получил мат на тридцать седьмом ходу, как и было обещано его доске. Он хотел увильнуть, сдаться на тридцать пятом, однако любопытная шахматная общественность принудила доиграть до конца из чисто теоретического любопытства. Кому из идолопоклонников не хочется иной раз под горячую руку макнуть мордой в грязь верховного божка?









