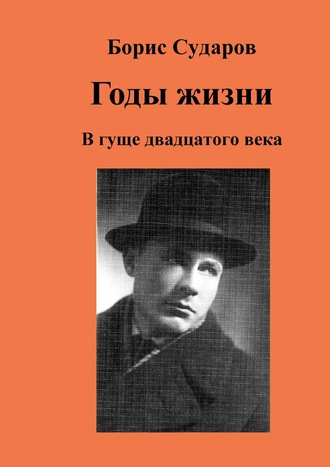
Полная версия
Годы жизни. В гуще двадцатого века

Годы жизни
В гуще двадцатого века
Борис Сударов
Мария Романушко Редактор
© Борис Сударов, 2020
ISBN 978-5-4485-1364-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В городе детства
Как сладко на закате жизни вновь мысленно пережить прожитые годы, вспомнить детство, юность, особенно почему-то детство. Порою, оно кажется мне безмятежным, счастливым, хотя на самом деле, сквозь призму времени, понимаю, сколь трудным и совсем не таким счастливым было оно.
Правда, я еще застал время, когда наша семья жила относительно благополучно. Бабушка, как до революции, несколько лет и при советской власти продолжала заниматься своим маленьким бизнесом. С помощью папы и наемной работницы Варьки, она выпекала хлеб и сама же его продавала.
Бывало, в летнюю пору я подходил к ней, сидящей за столиком на базарной площади, и она давала мне пол-копейки на мороженое.
Но когда в начале 30-х годов в стране разразился голод, а затем была запрещена частная торговля, и бабушкин бизнес был ликвидирован, о прежнем благополучии пришлось забыть.
Помню, холодным зимним вечером, мне было тогда лет шесть, простуженного меня знобило, я лежал на печи. Вдруг вижу, – к нам в дом входят трое незнакомцев. Один в кожаной куртке, двое других – милиционеры в длинных шинелях, на головах буденовки, в руках винтовки со штыками.
Они бесцеремонно прошли в зал и там, поговорив с родителями, ушли, уводя с собой папу.
В милиции, естественно, было известно, что бабушка в прошлом изредка получала из Америки от двух своих сыновей по несколько долларов. Она их не тратила, берегла на черный день. И вот сейчас, когда он наступил, эти сохраненные доллары она должна была отдать государству.
Бабушки в то время дома не было, она гостила у своей дочери – тетушки Жени, в соседнем городе. И папу взяли, как сейчас бы сказали, в заложники.
– Ты не пужайся, хозяйка, – сказал, обращаясь к маме, один из милиционеров. – Приедеть старая, сдасть свои доллары, и хозяина отпустять.
Бабушку срочно вызвали. Она приехала, отдала имеющиеся у нее доллары, и папа через три дня вернулся домой.
Этот эпизод навсегда остался в моей детской памяти. Как и последующие голодные предвоенные годы с их ночными очередями за хлебом, очередями у входа в раймаг, когда туда завозили что-то из одежды или обуви.
Я тогда был еще достаточно мал, чтобы переживать эти трудности.
А вот мои сёстры Рита с Евой – девочки, да и постарше меня, обе были симпатичные; им, конечно, хотелось получше одеваться, приличней выглядеть.
Рита вызывала особый интерес у мужской половины города.
Помню, в гости к нам напросился Семен Каган – высокий, интересный молодой человек. Он хорошо играл на скрипке. Рита ему нравилась. И вот он пришел знакомиться. Но Рите он почему-то не нравился и она, прикинувшись больной, запершись в комнате, оттуда не выходила.
Сценка, скажем прямо, была неприятная.
Гость, по просьбе мамы, поиграв на скрипке, ушел, как говорится, не солоно хлебавши.
А Риту родители решили отправить в Москву. Там она окончила курсы и стала работать лаборанткой в каком-то учреждении, живя несколько лет у наших добрейших великодушных родственников – вначале у тети Сони, потом у тети Жени.
Вскоре затем она вышла замуж за Илюшу – мстиславского парня, с которым была знакома с детства. Он в ту пору работал в Управлении Главного технолога на шарикоподшипниковом заводе. В Москве у него была маленькая однокомнатная квартира без удобств, с печным отоплением. Во дворе, как и у других жильцов дома, был небольшой сарай, где хранились дрова. Туалет, на дверях которого висел маленький замочек, находился как раз под окнами Научно-исследовательского института мясной и молочной промышленности.
Когда в 1944 году я учился в артиллерийской спецшколе в Москве и жил у Риты, я всегда стеснялся входить в туалет. Всякий раз кожей чувствовал на себе нахальные улыбки молодых ученых мужей, стоявших у окна и смотревших, как я ковыряюсь в замочке.
Порой по утрам, когда было время, я совершал пробежки до Рижского вокзала, чтобы посетить там санитарные апартаменты.
Но все это было много позже. А в 30-х годах Рита с Илюшей, а позже с Софочкой приезжали на лето к нам, в Мстиславль.
До сих пор помню вкус «Раковых шеек», которые они привозили. У нас в магазинах их почему-то не было, хотя «Мишки», и другие шоколадные конфеты, были.
Мне как-то Рита привезла такие короткие, чуть ниже колен мальчишеские штаны, которые у соседских ребят вызывали зависть, и коньки.
Но катка у нас не было, и свои «снегурочки» я ни разу не надевал. Ребята как-то приторачивали коньки к валенкам и катались.
Я увлекался лыжами. Своих у меня не было, и я пользовался лыжами старшего брата Володи. Они были длинные, широкие, тяжелые. Володя легко управлялся с ними. На кроссе допризывников в 1938 году, который проводил военкомат, он был одним из первых.
Я же, когда ребята нашего пятого класса сдавали нормы на значок «БГТО» («Будь готов к труду и обороне»), пришел одним из последних, что меня очень огорчило.
На сохранившейся фотографии мы стоим на лыжах после кросса, все в валенках, с противогазами на боку. Рядом – военком и наш вожатый М. Михлин, который потом погиб в период оккупации.
После ликвидации бабушкиного бизнеса, наша семья оказалась в трудном положении, без средств к существованию.
Правда, у папы была хорошая специальность. Он получил музыкальное образование, играл на кларнете. В годы Первой мировой войны, призванный в армию, он проходил службу в музыкальной команде амурской пехотной дивизии, которая находилась на Дальнем Востоке – на случай, если Япония вступит в войну на стороне Германии.
Начальником команды – капельмейстером был у них капитан Агапкин, автор знаменитого марша «Прощание славянки», который до сих пор звучит во время парадов на Красной Площади. После революции Агапкин был главным дирижером Красной армии.
Демобилизовавшись, папа еще с одним музыкантом – И. Минькиным, оказались в Мстиславле, осели здесь и создали духовой оркестр. Его возглавил прекрасный трубач А. Дворин. Музыканты выступали летними вечерами в городском парке, бульваре, как его у нас называли. Там была сцена, танцевальная площадка. Молодежь, да и взрослые любили проводить там время.
Оркестр нередко выезжал в ближайшие села на свадьбы или похороны. Конечно, без него не обходились на всякого рода праздничных городских мероприятиях: демонстрациях, встречах, вечерах.
Но для содержания большой семьи заработка музыканта не хватало, и когда папу пригласили в местную артель, которая специализировалась на выпечке хлебных и кондитерских изделий, он стал работать там.
Помню, летом по утрам я приходил к папе и наблюдал, как он готовил мороженое. Как в большом чане смешивают молоко, яйца, сахар, еще что-то. Кажется, ваниль. Потом эта смесь разливалась в такие круглые бочонки, емкостью килограммов по двадцать, которые устанавливались в ящики со льдом. С помощью специальных приспособлений бочонки надо было вращать, чтобы смесь равномерно густела, постепенно превращаясь в мороженое. На заключительном этапе я порой в этом принимал участие. И когда примерно через час продукт был готов, папа на специальной деревянной лопатке давал мне большую порцию этого лакомства – для пробы.
Совсем недавно узнал, что и мой двоюродный брат Лева частенько заходил к моему папе (своему дяде) и тоже «снимал пробу» с помощью все той же лопатки.
Сейчас, на склоне лет, в памяти всплывают и другие эпизоды из той далекой детской поры.
Зиму я не любил, всегда с нетерпением ждал лета. Уже со второй половины мая мы с соседскими ребятами открывали купальный сезон. Река Вихра, протекавшая по окраине города, в двух километрах от нашего дома, по обоим берегам заросла густым кустарником.
Но в одном месте кустов не было, и там давно образовался песчаный пляж, широтою метров двести. С одной стороны купались женщины, с другой, метрах в ста, – мужчины. Взрослые и дети – все в основном купались нагишом, без плавок – их тогда вообще не было.
У пляжа река была, в общем-то, мелкая. И только у противоположного берега – кусочек метров пять был глубокий. Научившись плавать, мы с ребятами любили преодолевать эту глубину, выбирались на крутой берег и там, на лугу, вдыхая приятный запах трав и полевых цветов, по-детски резвились.
Когда Рита с Илюшей на лето приезжали в Мстиславль, они целые дни проводили на пляже.
Как-то, в очередной раз, перебравшись на другой берег, я нарвал для Риты на лугу букетик полевых цветов, но переплыть с ними обратно мне не удалось. Наглотавшись воды, я чуть было не пошел ко дну со своими цветами. Пришлось мне их бросить.
Кстати, Володя тоже однажды чуть не утонул, хотя и хорошо плавал. Ему у пляжа места в воде не хватало, и он обычно уплывал далеко вдоль по реке.
В тридцать шестом году в том месте, где Вихра впадает в Сож, построили электростанцию. Для населения окрестных городов это было огромным событием. Керосиновые лампы можно было убирать в чулан. Их заменили «лампочки Ильича».
По различным техническим причинам шлюзы на электростанции порой то открывали, то закрывали, и вода в этом случае вела себя соответствующим образом: ее вдруг становилось больше или меньше, прибрежные кусты то оказывались в воде, то сухими стояли на песчаном берегу.
Был конец августа. Володе пора было возвращаться в свою сельскую школу, где он после окончания педучилища учительствовал. Это в семи километрах от города. Погожим солнечным днем он с кем-то из приятелей решил на прощанье пойти искупаться. Пляж был пуст. Москвичи и ленинградцы, приехавшие на лето к своим родственникам, вернулись на «зимние квартиры». Школьников прохладная вода тоже уже не так манила, как в жаркие дни.
Володя разделся и, как обычно, поплыл вдоль по реке. В это время шлюзы на электростанции закрыли, и вода в Вихре стала стремительно прибывать. Володя, увлекшись, сразу не обратил на это внимания. А когда понял, в чем дело, возвращаться было поздно. Ему бы не удалось справиться с сильным встречным течением.
Он глазами стал искать место, где бы можно было выбраться на берег. Прибрежные кусты были уже в воде.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на берегу не оказался его бывший преподаватель по педучилищу Григорьев, которого в городе знали как заядлого охотника и еще как хозяина длинношерстной, коричневого цвета лайки. Григорьев сидел на берегу и отдыхал со своим верным четвероногим другом.
Уж как он конкретно помог Володе выбраться на берег, и какое участие в этом принимала собака, я не знаю. Слышал только, что дома об этом говорили, знал, что папа навестил Григорьева и поблагодарил его.
В 1938 году Володю призвали в армию. Через три года он должен был вернуться. Мы все ждали его. Ждала его и симпатичная любящая девушка.
Однако в одном из своих последних писем он писал: «Если вы внимательно слушаете радио и читаете газеты, вы, очевидно, догадываетесь, что вернусь я не скоро».
В армии о приближающейся войне знали и готовились к ней. Но, как потом оказалось, готовы не были.
В январе 1940 года Володя приезжал в Москву, встречался с Ритой. Его направляли в авиационное училище. В Москве он должен был пройти последнюю медкомиссию, которую, к сожалению, не прошел.
Еще когда он учился в школе, открывая бутылку газированной воды, он серьезно поранил кисть руки, ему тогда наложили несколько швов. Из-за этого медкомиссия его забраковала.
Володя служил под городом Опочка Калининской области и погиб в самом начале войны.
Осенью 1941 года в ответ на наш запрос в Наркомат обороны мы получили ответ о том, что он «пропал без вести».
О каких-то подробностях его гибели, о предполагаемом месте захоронения мне, к сожалению, ничего не удалось узнать ни в Подольском архиве министерства обороны, ни в московских военных архивах, куда я обращался после войны.
Рита, как обычно, в начале июня 1941 года приехала с маленькой Софочкой на отдых в Мстиславль.
Стояли теплые солнечные дни; благоухала природа, в садах наливались соками яблоки. В июле к нам должен был приехать Илюша.
Но война поломала все планы. Через час после выступления по радио Молотова, от Илюши пришла телеграмма-молния: «Срочно выезжай».
На следующий день папа провожал Риту с Софой в Москву. Прощаясь в Орше на вокзале, они не знали, что им не суждено будет больше встретиться.
Война пришла к нам в город неожиданно быстро. Уже через неделю у нас стали появляться люди, которых называли странным, незнакомым мне словом «беженцы». Это были, в основном, евреи, которым удалось выбраться из захваченных немцами белорусских городов. Они находили временное пристанище у кого-то из горожан, а затем, отдохнув, закупив что-то из продуктов на дорогу, снова отправлялись в путь. У нас, я помню, останавливалась женщина с двумя ребятами примерно моего возраста, с которыми мы быстро подружились и так же быстро расстались.
Много позже, когда мне довелось короткое время преподавать в пединституте историю, и вести курс «Великая отечественная война», я узнал, что на подступах к Мстиславлю тяжелые кровопролитные бои вели в ту пору войска воздушно-десантного корпуса генерала Жадова и стрелковой дивизии полковника Попсуй-Шапки. Им пришлось сдерживать натиск Танковой армии фельдмаршала Гудериана, рвущейся к Смоленску и далее к Москве. Конечно, долго продержаться наши войска не могли.
Вечером тринадцатого июля секретарь горкома партии И. Бейнинсон на совещании в горкоме указал коммунистам-руководителям предприятий на тяжелые бои, которые ведут наши войска на подступах к городу, и рекомендовал коммунистам, членам семей командиров Красной Армии, всем евреям завтра покинуть город и уходить вглубь страны.
Руководителям предприятий разрешалось использовать для этих целей весь имеющийся в их распоряжении транспорт.
В этом смысле, в лучшем положении оказались извозчики, которые смогли вывезти без труда свои семьи, и рабочие винзавода, где работал дядя Давид, – у них в распоряжении была грузовая машина и много лошадей.
Прощай, родимый город. В эвакуации
Утром 14 июля люди в одиночку и группами стали выходить из города.
Папа с утра, как обычно, ушел на работу. Однако, вскоре вернулся и сказал, что нам для отъезда дали лошадь, и чтобы мы быстро собрали вещи. «Только самое необходимое, – подчеркнул он, – Мы будем не одни, с нами будет еще шесть семей. Через час за нами заедут».
В артели была большая белая лошадь, на которой по утрам развозили по торговым точкам хлеб, кондитерские изделия, напитки, мороженое… И вот сейчас она должна была стать нашим спасителем.
Началась маленькая, семейная перепалка. Мама хотела взять одно, другое. Папа что-то откладывал в сторону, напоминая, что мы едем не одни, что телега не резиновая.
Я надел свои старые ботинки, решил, что в пути в них будет удобнее, а новые – положил в мешок.
Потом папа ушел к жившему по соседству сапожнику, дабы забрать сшитые на осень сапоги. По пути зашел к Дыментам, чтобы узнать, как у них обстоят дела с отъездом. Издалека увидел стоявшую у дома лошадь, запряженную в легкую пролетку, у которой суетились Исаак с Левой; тетя была в доме, собирала вещи, дядя Давид был еще на заводе.
Подходя поближе и глянув на хлипкие рессоры пролетки, папа понял, что они не выдержат четырех человек в столь длительной дороге. Попросил Исаака принести веревку покрепче, и они вдвоем скрепили рессоры. Потом оказалось, что это было весьма кстати.
Вместе, как рассчитывал папа, выехать нам из города не довелось. Винзаводские собрались быстрее, у них на каждую семью была отдельная лошадь. И они могли ехать, а не идти, как мы, рядом с телегой. Дыменты смогли даже увезти с собой корову. Ее хорошо кормили в пути сочной лесной травой. И она. в свою очередь, поила хозяев молоком.
Когда после десяти дней обоз винзаводских добрался до станции Комаричи, не без боли в сердце, с коровой пришлось расстаться. Местная женщина дала пуд сала за нее. «Когда мы прощались с нашей буренкой, – вспоминал позже Лева, – у мамы в глазах были слезы».
Пути наши с Дыментами так и не пересеклись. Выехав из города, обоз винзаводских повернул на Брянск, а мы в направлении на Рославль.
Ночью в лесу где-то возле Петровичей мы остановились. Надо было дать отдых нашему четвероногому спасителю и самим передохнуть. Над нами в звездном небе проносились самолеты. Наши или немецкие – мы не знали. Кто-то из женщин предложил накрыть нашего белого коня чем-то темным, чтобы враг нас не заметил. Святая наивность! Никто не обратил внимания на эти слова.
Минут через тридцать лесной дорогой мы продолжили наш путь. Папа, управляя лошадью, обернулся к нам с Евой и спросил: «Где мама?»
В темноте мы не обратили внимания, что ее нет рядом с нами. Папа остановил коня, и Ева поспешила к месту нашей стоянки.
Хорошо, что мы не успели далеко отъехать. Ева сразу увидела маму. Устав за день, она сидела на пеньке и дремала, не слыша, как мы уехали.
В отличие от наших пожилых мужчин и женщин, я легко переносил многочасовые переходы, обычно уходил вперед, потом останавливался, ждал своих.
Был жаркий день, хотелось пить.
Как-то проезжая большую деревню, мы остановились на околице у колодца. Папа быстро управился с бадьей, болтавшейся на цепи, и мы утолили жажду. Кто-то стал умываться прохладной, освежающей водой. А я, не спеша, как обычно, пошел по дороге. Пройдя метров сто, оглянулся. Смотрю – наши сначала тронулись, было, с места, а потом остановились, и папа быстро направился к колодцу.
Оказалось, никто не обратил внимания, как я ушел вперед. Подумали, что бадья на цепи могла утащить меня в колодец. Я стал махать рукой, и Ева, наконец, заметила меня.
В этой деревне на базаре мы встретили нашего врача Левченко с семьей, еще кого-то из Мстиславских. Все запасались какими-то продуктами.
Проезжая через деревни, на лицах встречавшихся нам местных жителей я не замечал сочувствия нам. В их глазах было холодное безучастие. А в репликах порой можно было услышать и что-то обидное.
Десятидневный переход мы закончили в городе Кирове. У кого-то из наших здесь были знакомые, и они на пару часов приютили нас.
Хозяйка затопила огромную печь, и наши женщины захлопотали возле нее.
Перед тем, как нам покинуть Мстиславль, папа с товарищами, по просьбе начпрода полка, несколько ночей пекли хлеб для его красноармейцев.
В знак благодарности начпрод оставил артельщикам большую, килограммов тридцать, пачку масла. В июльскую жару ее все равно нельзя было сохранить.
Перед отъездом в артели оставалось еще какое-то количество муки, и рабочие решили разделить ее между собой – не оставлять же немцам. И вот сейчас все это здесь, в Кирове, пошло в ход.
Коня папа стреножил и поручил мне приглядывать за ним.
Я стоял под окном и смотрел на нашего спасителя, лениво пощипывающего еще не пожелтевшую траву. А из окна неслись манящие запахи пирожков, булочек… И я не выдержал, зашел в дом, чтобы чем-то полакомиться, всего минут на пять, не больше. Но когда вышел, на ходу жуя пирожок, коня под окном не было. Я обежал вокруг дома, просмотрел ближайшие переулки. Потом наши мужчины обошли все ближайшие улицы, расспрашивали людей… Конь как в воду канул. Я чувствовал свою вину. И хотя меня никто не упрекал, старался никому на глаза не попадаться.
Положение упрощалось тем, что железнодорожная станция была неподалеку, всего в семи километрах. По просьбе хозяйки, в доме у которой мы остановились, сосед-кучер на своей лошади отвез нас на станцию. Там мы быстро сели в подошедший товарный состав, который шел с фронта, – туда он отвозил лошадей. В вагоне – запах и все прочее напоминало об этом. Но мы были счастливы.
Через пару часов в Почепе нас подобрал товарный состав с эвакуированными, двигавшийся вглубь страны, – куда – никто не мог сказать.
Здесь уже вагоны были оборудованы специально для перевозки людей двухэтажными нарами…
Не все взрослые смогут назвать день, когда для них кончилось детство. Мне этот день запомнился на всю жизнь.
В детстве у меня, как и у других ребят нашей тимуровской команды, не было элементарных игрушек, они отсутствовали в наших магазинах. У меня единственной игрушкой был с любовью изготовленный папой деревянный пистолет, покрытый черной краской и лаком, он был похож на настоящий.
В школе старшеклассники ко дню Красной Армии подготовили какой-то спектакль на военную тему. Красного командира в нем играл симпатичный Юра Матюкевич, которому для его роли нужен был пистолет. Но достать его нигде не могли.
И вот Ева попросила у меня для спектакля мою игрушку.
Потом «Красный командир» не хотел мне ее возвращать. Он носился на перемене по залу с моим пистолетом, смешил девчонок.
Как-то, улучив момент, я подкрался сзади к нему, выхватил свою игрушку и убежал…
Через много лет, в Москве, я случайно встретил моего былого «обидчика». Полковник Матюкевич после окончания артиллерийской Академии преподавал в институте имени Баумана.
Мы вспомнили довоенный Мстиславль, наших общих знакомых. Оба с улыбкой вспомнили историю с моим пистолетиком…
…Июльским днем сорок первого, покидая Мстиславль, я не мог оставить врагу мою любимую игрушку. Всю дорогу нес ее в руке, или засовывал в мешок с вещами.
Когда папа уже в эшелоне заметил ее у меня в руке, он взял и… выбросил ее из вагона. Вот тогда я понял – кончилось мое детство.
…Поезд то безостановочно мчался вперед, то надолго останавливался на запасном пути какой-нибудь станции, пропуская встречные воинские эшелоны. На всех маленьких и больших станциях еще издалека можно было прочитать написанное огромными буквами слово , которое поначалу казалось мне названием станции. «Кипяток»
Кипяченую, горячую воду в пути по своему значению можно было сравнить с хлебом. Как только поезд на станции останавливался, мужчины, женщины с чайниками, бидончиками устремлялись к манящей вдалеке надписи . Сколько поезд простоит, никто не знал. Порою, он вдруг трогался, и люди бежали обратно. Хватались за протянутые руки, и их втаскивали в вагон. «кипяток»
Кто-то, не успев добежать, в растерянности останавливался на платформе, тоскливо глядя на удалявшийся состав.
Куда нас везли, никто не знал.
Кто-то размышлял: «Хорошо бы в Среднюю Азию, впереди зима».
Другие считали, что там жарко, лучше бы в Сибирь.
Ранним утром в начале августа мы прибыли, наконец, в пункт назначения – город Чкалов.
По распоряжению местных властей эвакуированных ждали уже колхозные подводы. На одну из них мы погрузили свой жалкий скарб, сами сели и отправились в неизвестность.
Поздним вечером въезжали в глухую уральскую деревню Сенцовка, где правление колхоза определило нас на квартиру к пожилой супружеской паре. Хозяева любезно предоставили в наше распоряжение маленькую каморку с полатями во всю ее ширину.
Стояли жаркие дни. Не желая лишний раз беспокоить хозяев, мы не торопились селиться в своей каморке, а расположились в сарае на сеновале.
Была решена проблема питания. В счет будущих трудодней мы получали в правлении хлеб и молоко. Молоко, правда, сепараторное. По нынешним меркам – однопроцентной жирности. Но мы были рады и этому.
Пока активная уборочная кампания не началась, для нас работы в поле не было.
Как-то в деревню приехал топограф, в помощь которому надо было выделить человека. И жребий пал… на Еву.
Папа с мамой засомневались, можно ли ее, девчонку, отпускать в степь с незнакомым молодым мужчиной.
– Ладно, папа, я поеду, – сказала Ева. – Ничего со мной не случится, не волнуйся.
Но, когда через три дня вернулась, она заявила, что больше в степь с этим мужчиной не поедет.
Беспокойство мамы с папой было, видимо, не напрасным.
Я очень скоро перезнакомился с местными ребятами и девчонками, ходил с ними на вечерние посиделки, которые устраивались на краю деревни. Там играла гармошка, девчонки пели какие-то незнакомые мне песни, частушки, у всех в кармашках были семечки, с которыми они ловко расправлялись.
Рядом со мною всегда оказывалась рыжеволосая, симпатичная Раечка, которая уделяла мне внимание, угощала семечками.
Трактористы, работавшие в поле, встретили там однажды незнакомого парня. Когда спросили его, кто он и как оказался в степи, незнакомец молчал, ни словом, ни мимикой не реагировал на вопросы. Это насторожило трактористов, и они привели его в правление.
Старик, участник Первой мировой войны, побывавший у немцев в плену, решил, что это может быть шпион. Зная несколько слов по-немецки, пытался что-то прояснить, но тщетно. И тогда в помощь старику позвали меня.



