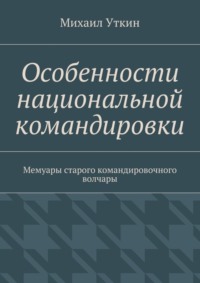Полная версия
Особенности национальной командировки. Мемуары старого командировочного волчары. Том 2
Окончательно стемнело, правый дворник у этого «Икаруса» тоже не работал, вдобавок ничего не показывал спидометр и не горела подсветка приборов. Наш новый «рулевой» периодически включал свет над своим креслом, чтобы посмотреть, что там у него показывают все оставшиеся в живых стрелочки. Первые полчаса дороги по окнам хлестали хлопья снега, но к Южноуральску непогода вдруг поутихла, а вскоре и асфальт на трассе стал абсолютно сухим.
На автостанции этого городка часть народа вышла, но, как только автобус свернул с кустанайской трассы на магнитогорскую, нас остановила целая толпа ментов, желавшая разъехаться по домам. Некоторые из них выходили потом в каких-то посёлках, но двое доехали до самого Магнитогорска.
«Икарус» бежал по широченной и практически пустой трассе. Сначала в окошке промелькнул указатель «Пласт», и слева от дороги на какое-то время возникло жиденькое озерцо подслеповатых огоньков, которое быстро исчезло. Потом лишь изредка попадались огонёчки каких-то колхозов, у павильона остановки одного из них, примерно за полтора часа до Магнитогорска, водила устроил нам пятиминутный перекур.
Километров за тридцать до города дорога вдруг стала идеально ровной, «рулевой» вжал педальку в пол, и в этот момент снова повалил густой снег. Трасса моментально стала белой. Сквозь беснующуюся пургу за окошком изредка проглядывали едва различимые огоньки, и только попавшаяся нам махина огромного элеватора была освещена по своим углам – казалось, что это грозный военный корабль, который упорно пробивается сквозь бурю и шторм навстречу врагам. Название станции, на которой он стоял, оказалось на редкость под стать погоде за окном – Буранная.
А вскоре показались и те самые Огни Магнитки, которые Караганда так любовно и искусно рисовала на пивных бутылках. «Икарус» долго ехал по какому-то проспекту вдоль заводов и, как потом оказалось, переехал местное водохранилище по самому дальнему от челябинской трассы мосту, называвшемуся «Казачий переход». Потом водила повернул на проспект Ленина, и покатил назад к вокзалу, высаживая по дороге людей. Непонятно, зачем он это делал, ибо в Магнитогорске была ЦИВИЛИЗАЦИЯ: в двенадцатом часу ночи, несмотря на пургу, по улицам исправно бегали ярко освещённые трамвайчики всех 29-ти маршрутов, работало множество киосков и магазинчиков, а на «линию» уже вышла разношёрстная снегоочистительная техника!
Мне предстояло найти общежитие цемзавода, и добрая женщина – местная жительница, ехавшая вместе со мной, остановила автобус на углу нужных улиц, и затем довела меня почти до самой общаги. Не Москва же! Общежитием цементно-огнеупорного завода мог бы гордиться не только Магнитогорск или Челябинская область, но и, пожалуй, весь Уральский Федеральный округ! В тёплом пятиэтажном здании всё было аккуратно побелено и покрашено, никаких потёков и паутин по потолкам, все стёкла были мало того, что целые, так ещё и стерильно чистые! Но самое главное, тут не было никаких «общежитских» запахов!
«Гостиничная» секция была на пятом этаже. По её центру располагалась огромная «кают-компания» с телевизором и диванами, вокруг неё было четыре комнатки: одна одноместная с персональным санузлом, и ещё три двухместных. Один коридор вёл оттуда на кухню с электроплитой «Индезит», холодильником и всякой кухонной утварью, а второй коридор выходил к санузлу, в котором было два туалета, умывальник и просторная душевая без ванны. Причём всё это было абсолютно бесплатно. Я заселился в одной из двухместных комнат и, умотанный обоими «Икарусами», упал спать.
Огни Магнитки с рассветом потускнели, но пурга ещё продолжалась. В 9 утра за мной прислали дежурный заводской «КАвЗик». Мне ведь обещали начать футеровку именно с утра в воскресенье! Но, как это обычно и бывает, что-то вовремя не срослось, и начало работ отложили на утро понедельника.
Я пошёл побродить по городу и первым делом появился на местном железнодорожном вокзале – так же, как и в Челябинске, совмещённом в одном здании с автостанцией. Но само здание вокзала было таким же, как в Нижнем Тагиле. Там я переписал расписание автобусов в Екатеринбург, и вышел на привокзальную площадь. Перед зданием универсама, стоявшим прямо напротив вокзала, был стихийный базарчик. Удельное княжество господина Муртазы Рахимова находилось сразу за западной границей города, и башкиры торговали молоком, сметаной, мясом и разными овощами.
Магнитогорским трамваям было скучно ездить поодиночке – они были сцеплены по два, а то и по три. Сев в такое «три в одном», я проехал пару остановок в сторону своей общаги. Я же говорю, что в городе была цивилизация: рядом с общежитием нашлось аж целых два компьютерных клуба, и я залез на пару часиков в Интернет, а затем, накупив себе продуктов, вернулся в гостиницу, и сел смотреть телевизор.
С утра понедельника моя работа, наконец, началась. Мне предстояло показать, как правильно используется наша огнеупорная продукция, трём сменам, начинавшимся у рабочих-ремонтников в восемь утра, четыре часа дня, и в полночь. С первой и второй сменами всё получилось нормально, и часов в шесть вечера я уехал в гостиницу, куда мне ближе к полуночи пообещали прислать «дежурку».
Снова началась пурга, и заводской «КАвЗик», отчаянно вихляя курдюком на заснеженных улицах, всё же смог доползти до общаги. За рулём сидел парнишка, который перебрался сюда на постоянное место жительства из нашего Казахстана – родом он был из Рудного. По дороге он посетовал на свою жизнь: зарплата в шесть тысяч российских рублей и комнатка в общежитии безо всяких перспектив. На что я ему резонно заметил, что найти вариант покрутить баранку за 25—30 тысяч тенге в месяц, он легко смог бы найти и у себя в Рудном; ещё легче – на какой-нибудь маршрутке по Кустанаю; и уж – тем более! – в Астане…
В цехе обжига было сухо и тепло. В воздухе летала мельчайшая доломитовая пыль. Гулко ревели газовые факелы и электроприводы двух работавших печей. Вскоре подъехала бригада ремонтников третьей смены, я объяснил и показал им всё, что нужно, и работа закипела. Часы показывали половину второго ночи, и можно было возвращаться в гостиницу. Но за окнами цеха вдруг возникло «северное сияние» – всё небо осветилось сначала ярко-голубым светом, затем – через пару секунд – светло-красным, ещё через секунду снова голубым, и в цехе моментально наступила мёртвая тишина!
Огни Магнитки погасли!
Дежурная смена машинистов печей, схватив фонарики, понеслась по цеху – выключать всякие рубильники и перекрывать газовые вентили. Я кое-как выбрался из здания – до сих пор удивляюсь, что при этом не расшибся об какую-нибудь трубу или железяку, которые во множестве торчали на разной высоте от пола, и не навернулся с крутых металлических лестниц-трапов. Пурга продолжалась, вместе с заводом погас и весь «Цементный посёлок» вокруг него, и я в кромешной тьме пополз по сугробам в диспетчерскую.
Несчастная женщина, сидевшая в одиночестве перед мёртвым пультом связи, не на шутку перепугалась, когда хлопнула входная дверь, но я сразу крикнул ей через коридор, кто я такой, и зачем иду. Ни фонарика, ни свечек здесь не было, и мне пришлось подсвечивать зажигалкой отдельный, подключённый мимо этого пульта телефон – единственный оставшийся в работе – когда мадам дрожащей рукой принялась накручивать домашние номера самого большого заводского начальства, чтобы доложить об аварии.
Чуть позже выяснилось, что на электроподстанции, расположенной рядом с карьером, где завод откапывал себе из-под снега сырьё, сгорел от короткого замыкания огромный силовой трансформатор. Производственное оборудование минут через сорок смогли переключить на какую-то резервную линию и запустить, но весь посёлок цементников оставался без света почти до девяти утра.
Ещё два дня я ходил по заводу, пока все работы не были доделаны. Всё бы ничего, но столовая цемзавода оказалась на такую же редкость позорной, насколько классной была их общага. Она принадлежала тресту столовых самого металлургического комбината ММК, и находилась на таком «отшибе» от него, что персонал сего предприятия общественного питания просто «забил» на всё – ну трудно представить себе в наше время столовую, в которой бы не делали ни одного салатика! Начальству цемзавода она давно стояла поперёк горла, но с самим ММК они, являясь его дочерним предприятием, ничего поделать, естественно, не могли.
В среду мне устроили экскурс по промышленным анналам Магнитогорска, свозив на машинке на местный «Огнеупор». Мы долго мотались по каким-то безымянным улицам без жилых домов – вокруг были только заборы и проходные ММК, каждая из которых имела свой отдельный номер. День был предпраздничный, и меня часа в четыре отпустили насовсем. Я понёсся на авто-железнодорожный вокзал и, отстояв около часа в очереди, взял себе назавтра билет до Екатеринбурга на маршрутку. На сей раз действительно на «ГАЗель», ибо билет оказался на 120 рублей дороже автобусного – почему мне никто не сказал этого, когда я ехал в Магнитогорск?!!
Я решил приготовить на «Индезите» себе и ещё одному мужику, жившему в гостинице, «отвальный» ужин. Мне объяснили, что есть в городе такое место – «Куранты» называется – в киосках, расположенных там, можно купить и свежее мясо, и всё остальное. Я опять запрыгнул в трамвайное «три в одном», и прискакал на эти самые «Куранты» – в седьмом часу вечера вся эта армада киосков, которая и вправду там оказалась, была уже давно закрыта.
Тогда я побрёл вдоль проспекта Ленина, и в районе местных ЦУМа и Университета наткнулся-таки на огромный крутой супермаркет, хоть и бедноватый по части овощей, но тем не менее на азу с говядиной, картошкой и солёными огурцами я всё там нашёл.
Ужин получился на славу…
День 7 ноября – красный день календаря! Как говорил один мой знакомый: «Вот вы всё смеётесь, а уже очередная Годовщина…» Маршрутка на Екатеринбург отправлялась ровно в полдень. Сияло яркое солнышко, искрился свежий снег, и был лёгкий морозец градуса в два. «Газель» магнитогорского автопарка подкатила к перрону почти за полчаса. Огромная тётка-контролёрша, с трудом поворачиваясь в её салоне, проверила у нас билеты, и мы, даже чуть раньше расписания, отправились в свой дальний рейс.
Снова длинные заборы магнитогорских комбинатов, потом какие-то двухэтажные домики – только где-то через полчаса мы выскочили на трассу. Дорога была покрыта снежным накатом, но к середине дороги до Южноуральска снег практически кончился. Маршрутка побежала по ровному асфальту, но явно не так быстро, как могла бы – мы приехали на южноуральскую автостанцию всего-то на полчаса быстрее «Икаруса».
Короткая остановка – кому в туалет, кому в буфет – и мы вновь выскочили на трассу. Небо над Челябинском оказалось затянуто тучами, однако снега там на земле практически не было. Люди, уже попадавшие раньше на такой рейс, говорили мне, что такая «ГАЗель» должна объехать город по окружной, но наш «рулевой» попёрся в самый центр Челябинска. Правда, на железнодорожный вокзал он заезжать не стал. Мы долго ехали по улицам этого города, стоя почти на всех светофорах и пропуская трамваи.
Долго ли, коротко ли, но мы всё же выскочили на екатеринбургскую трассу. Водила остановился на заправке, короткий перекур, и мы понеслись дальше. Стало совсем темно, и сугробы вдоль обочин стали постепенно увеличиваться. В восьмом часу вечера, сэкономив где-то полтора часа по времени, наша маршрутка залетела во двор Южного автовокзала Екатеринбурга. Конечно, эта машина была мало рассчитана на пятисоткилометровые рейсы, и весь народ крепко умотался…
Было три или четыре градуса мороза и сыпал мелкий снежок. Беспросветная слякоть в столице Уральской Республики кончилась!
VII. На семи ветрах
«На Тихорецкую состав отправится.
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные…»
(М. Львовский)
114. Поезд «Тальго»
Перенеся столицу Казахстана из Алматы в Астану, Президент нашей страны потребовал от железнодорожников сократить время в пути для поездов между этими городами с двадцати одного до тринадцати часов. И вскоре в скромной газетной заметке появилась информация о том, что Казахстан купил у Испании два скоростных поезда типа «Talgo».
Эти поезда начали было ходить пробными рейсами между Северной и Южной столицами Казахстана, причём с тепловозами «ТЭП-70», выуженными из анналов чарского запасника, и затем капитально отремонтированными – электровозов, способных выжимать скоростёнку в 160—170 км/ч, у наших железнодорожников тогда не нашлось. Китайские скоростные электровозы «KZ4A» специально под эти поезда «Казахстан темир жолы» купит гораздо позже, годика через два…
Мой дружок Серёга Булыгин даже успел прокатиться разок из Астаны в Алматы на этом поезде, но продолжались эти рейсы недолго – в Великой Казахской Степи наступила зима с пургой, перемежающейся морозами в 35—40 градусов, и тут оказалось, что несчастные игрушечные испанские вагончики не выдержали такого климатического издевательства над собою, и чуть не расклеились от такого холода! Не зря же потом появился анекдот про одноразовый пластиковый испанский поезд?!!
Срочно прибывший консилиум специалистов из испанской фирмы «Patentes Talgo S. A.» постановил: пациент излечим. И рьяно принялся за работу. Между тем один из составчиков «Тальго» пустили на зиму от Алматы до Шымкента, где потеплее. Но и туда ненадолго – на месяц или полтора, после чего этот поезд вновь пропал. Казахстанское приложение к «Комсомольской правде» немедленно разразилось огромной статьёй под названием «Испанский идальго по имени „Тальго“ стоит на запасном пути»…
В свой самый первый раз я увидел этот поезд как раз и пришедшим из Чимкента на Алма-Ату II ранним январским утром 2002 года. В газете было написано, что каждый состав состоит из двадцати двух вагонов, однако реально их оказалось в том поезде всего семь. Крохотные вагончики постояли немного на первом пути и уехали куда-то на Алма-Ату I, где их прятали в специальном депо. Я полез на «испанские» странички сайта европейской железнодорожной фотогалереи «Рэйлфан Европы», в те времена ещё называвшегося «Меркурио», и, покопавшись в фотках, понял, что к нам привезли модификацию поезда «Тальго», называвшуюся «Talgo-200» – предпоследнюю по своей тогдашней новизне.
Так прошёл примерно год… И вдруг почти все казахстанские газеты написали о том, что эти поезда вновь запускают рейсами на Астану. Что испанцы наконец-то переделали свои вагончики под наш климат, и что Казахстан закупает по этому случаю ещё два таких же поезда. В летнем расписании железной дороги на 2003 год появился скорый фирменный поезд №1/2 «Жаңа Дәуiр» сначала один, а потом – и второй раз в неделю.
В августе мне наконец-то подвернулась возможность прокатиться на этом поезде до Караганды. Билетик пришлось брать аж за две недели, ибо несмотря на двойную от обычной цену, билеты на «Тальго» народ расхватывал «на ура». Дня за четыре до своего путешествия я прибежал на вокзал Алма-Ата II к отправлению такого же поезда, специально прихватив с собой фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков.
Состав «Talgo-200» появился на перроне минут за сорок до своего отправления. Привёз его аягозский тепловоз «ТЭП70» с заводским номером 0106. Состав состоял теперь из десяти вагонов: «технической головы» с дизель-генератором, купейного вагона, двух «СВ», ещё одного купейного, двух ресторанов-баров, двух «плацкартов» – межобластных вообще-то, с креслами внутри, и замыкался такой же «технической головой».
Состав ещё в Испании был назван «Fatima», но его вагончики были выкрашены немножко по-другому, чем в на своей родине: по окнам и сверху в серебристый цвет, сразу под окнами шла широкая ярко-оранжевая полоса, а ниже её вагон был тёмно-синий. На всех вагонах красовались надписи: «КР-2 ВРЗ ТАЛЬГО 18.11.01» и «220 км/ч».
Крохотные, не больше автобуса «ПАЗ-3205», вагончики были сцеплены друг с другом по принципу автомобильных полуприцепов – каждый вагон имел только по одной оси с двумя колёсами, расположенными как раз в том месте, где эти вагоны сцеплялись. Подлезть под такой вагон было невозможно, так же, как и выйти с него на «высокую» платформу. Тормоза у всего этого состава оказались не такими, как у наших пассажирских и грузовых вагонов, а больше напоминали автомобильные: тормозная колодка оказалась расположенной не сбоку колеса, а снаружи его – чуть выше и правее буксы, отчего у испанских вагончиков вся поверхность колёс, обращённая к перрону, оказалась натёрта до зеркального блеска.
Я стал рассматривать поезд, периодически делая снимки. Двери для выхода на перрон были не у всех вагонов. Первый купейный вагон такую дверь имел. Стёкла у всех вагонов были тонированными – заглянув через такое тонированное стекло внутрь купе, я увидел крохотную купешку с четырьмя огромными креслами по два напротив друг друга, спальные полки были сложены, а на вагоне было написано: «Мест для сидения 20, спальных 20».
Следующими двумя вагонами оказались два «СВ» с пятью двухместными купе – по десять мест в вагоне. Один из этих вагончиков имел только один выход на перрон, на другую сторону перрона. Потом стоял ещё один купейный, а за ним шли два вагона-ресторана. Выходов из ресторанов на перрон не было, а внутри они оказались разными: первый из них имел кухню на полвагона, а на другие полвагона – классическую барную стойку, расположенную вдоль вагона. В другом вагоне-ресторане оказалось десять столиков: пять двухместных с одной стороны и пять четырёхместных с другой.
Следующие два вагона оказались «межобластными», с креслами, как в самолёте, по двадцать пять мест в каждом из них. Однако по системе «Экспресс-3» они считались почему-то плацкартными – именно в такой вагон я и купил себе билет. Оба «плацкарта» имели по одному тамбуру с выходом на перрон в обе стороны. Все вагоны, кроме технических, имели точно посредине чуть торчавший из-под низа борта в сторону перрона патрубок с крайне недвусмысленной надписью на борту возле него – «WC».
Пока я рассматривал поезд, тот же самый тепловоз, что привёз состав на посадку, «обогнался» по соседним путям вокруг вагонов, и подъехал к составу с другой стороны. Ему так и предстояло бессменно лететь с испанскими вагончиками до самой Астаны. Когда он прицепился к составу «Тальго», и помощник машиниста полез соединять тормозные рукава, из «нерабочей» кабины тепловоза вдруг вылез ментяра в форме майора, с самой внимательной тщательностью пронаблюдал за всей этой процедурой, а затем снова залез в «хвостовую» кабину локомотива…
И вот через четыре дня я пришёл на вокзал, чтобы уже ехать. У двери моего вагона стояла обалденной красоты девчушка в шикарной сине-голубой форме и проверяла билетики. Язык не поворачивался назвать эту стюардессу проводницей! Я показал билет и влез в вагон. Ступеньки у двери не было, а порог оказался аж где-то у моих колен, но народ ничего, запрыгивал…
Из одного вагона в другой вёл междувагонный переход, который не закрывался дверьми, как в наших вагонах, и выглядел, как ощутимой длины прорезиненный «тоннель» с алюминиевым бандажом посредине. Резина по стенкам и потолку перехода оказалась гладкой, а пол – «в пупырышку». В этом же единственном «рабочем» тамбуре оказалось и место для курения – с прикреплёнными на стенках пепельницами и огромным огнетушителем.
Все двери, и ведшие из тамбура на улицу, и в салон вагона, оказались автоматическими на пневматике. Двери на перрон были выкрашены изнутри в ярко-оранжевый цвет, рядом с каждой из них оказалось сбоку по две кнопки – чёрная (закрывать) и зелёная (открывать). Автоматические серовато-прозрачные пластиковые двери с обеих сторон салона нашего «плацкарта» были с крохотной ручкой типа, как в купе наших вагонов. При лёгком наклоне этой ручки (одним пальцем!) дверь автоматически открывалась, и затем сама закрывалась за тобой. Наверху над этими дверьми со стороны тамбуров под самым потолком оказались красненькие кнопки аварийного отключения всей этой их пневмоавтоматики.
Сразу при входе в салон с обеих сторон оказалось по багажному отсеку в три полки от потолка до пола у каждого. Всё это очень напоминало хвостовой отсек самолёта «Як-42». Впрочем, там абсолютно всё больше напоминало самолёт, чем поезд! Багажные полки шли так же и над креслами; по их нижней поверхности были лампочки индивидуального освещения, на которых были написаны номера мест. Непременного авиационного атрибута – индивидуальных вентиляторов – не оказалось, однако кондиционер работал более, чем исправно – в вагоне было холодно.
Кресла стояли по три в ряду: два с одной стороны и одно с другой. Номера мест шли от 23—25 у тамбура до 1—4 у туалета. Кресла были достаточно широкие, в проходе поместилось бы по ширине ещё одно такое же кресло. Спинка кресла не откидывалась, но нажатием специальной кнопки сиденье вместе с нижним краем спинки заметно выдвигалось вперёд, и спинка таким образом становилась гораздо более пологой – можно было и вздремнуть. Расстояние между креслами оказалось почти в два раза больше, чем даже у самолёта «Ил-86», так что даже самые длинноногие не упирались коленями в уши впередисидящего.
В спинках кресел были откидные столики. Мы поехали 25-м местом вперёд, и все кресла были повёрнуты лицом по ходу, причём они наверняка легко разворачиваются при необходимости в другую сторону, но 23—25 места были всё равно «лицом назад». По краям и в середине салона висело под потолком четыре телевизора, два из них экраном к первым местам, и ещё два – экраном к последним. Там же, под потолком, шёл длинный «самолётный» светильник во всю длину вагона. В углу, у 2-го и 3-го мест, вместо титана, коим оснащены советские вагоны, оказался симпатичный диспенсер «евроводы» фирмы «Калипсо», какие так любят ставить в офисах: девятнадцатилитровая пластиковая бутыль с водой горлышком вниз, и два краника – один с кипятком, из другого почти ледышки падали. Рядом – стопка одноразовых стаканчиков.
За перегородкой со второй автоматической дверью оказался выход в тамбур с туалетом и техническим отсеком. На двери в этот технический отсек была огромная красная кнопка для какого-то аварийного отключения с испанской надписью, и два манометра. А напротив оказался крохотный, как в самолёте, туалет. Унитаз стоял спинкой к борту вагона, над ним было небольшое матовое окошко. Между крышкой унитаза и окном оказалась откидывающаяся поверх унитаза полка, оклеенная изнутри розовастенько-желтовастеньким мягоньким пенопленом, пиктограмма на которой с наружной стороны означала «положи сюда младенца и смени ему памперс». Вода в кране над раковиной включалась нажатием кнопки вниз, рядом с которой был перекидывающийся вправо-влево рычажок «горячая – холодная».
Санитарных зон у такого поезда сначала не было – из него же ничего на улицу не выливалось! Но потом проводники стали закрывать туалеты во время остановок и на начальных станциях отправления – против безбилетников. Рядом с унитазом на стене была кнопка его смыва – когда нажмёшь, под ней загоралась зелёная лампочка, тут же было слышно, как начинает работать вся эта хитрая пневматика, в унитаз сливалось чуть-чуть воды, а затем, секунд через пять-шесть, всё это всасывалось в канализацию с громким «ухлюпом», как у хорошего моющего пылесоса. В момент всасывания из вентиляционной решёточки сверху начинал дуть ветерок свежего воздуха. Процедура повторялась дважды с тем же интервалом. И со мною чуть не случилась истерика, когда я вдруг не смог закрыть пущенную в кране воду – как потом оказалось, что она сама закрывается через 18 секунд.
Ну да ладно – мне хватило мозгов самому догадаться, а одному гражданину ФРГ, родившемуся в своё время в ГДР, и попавшему как-то со мной в купе нашего обычного вагона, пришлось показывать, как нажатием стерженька кверху открывается вода в нашем поездном умывальнике! Бедолага искрутил там все краны и понажимал на все педали, не понимая, как же пустить воду! В вагоне, сделанном в его Германии…
По вагонам раздался сигнал из электронных гудочков, очень похожий на тот, что звучит в «Ил-86», «стюардессы» закрыли двери на перрон, и наш состав очень плавно тронулся. Колёса начали стучать равномерно в унисон, и звук стал очень сильно напоминать тиканье старого ереванского будильника!
Вдоль каждого борта в пассажирском салоне было по пять вытянутых в длину окон из двойных тонированных стеклопакетов. Все окна были прикрыты шторками из плотной тёмно-синей ткани с изумительнейшей плиссировкой. Кто, интересно, их так отгладил?!! «Стюардессы» – две молоденькие и очень симпатичные девчонки – одна русская, вторая казашка – уселись после отправления у багажных отсеков, лицом друг к другу, на 22-м и 25-м местах.
Станцию Алма-Ата I мы проскочили без остановки – высокие платформы этого вокзала доставали нашему «Тальго» аж до окон, а третий путь от вокзала тогда ещё не был поднят до уровня низкого перрона. Тепловозик сразу же притопил километров 120 в час, а нам включили телевизоры, и стали показывать какой-то видик с Мелом Гибсоном. Часть пассажиров из нашего вагона тут же потянулась в вагон-ресторан, салон которого был виден мне через прозрачные двери в тамбур. Я же оказался из той половины народа, что попроще: мы откинули столики в креслах, подоставали кто – курицу, кто – колбаску, набрали кипятку в «Калипсо», сделали чайку и принялись смотреть телевизор.