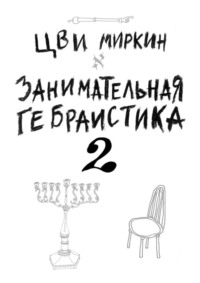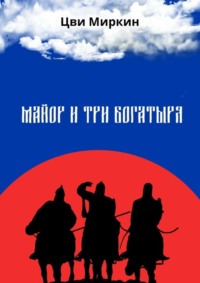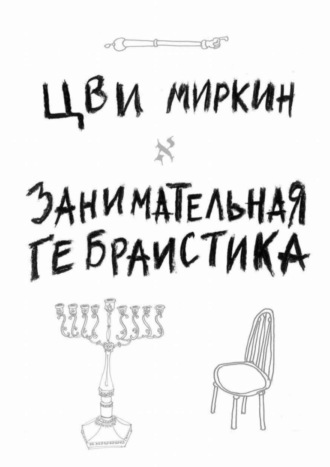
Полная версия
Занимательная гебраистика

Занимательная гебраистика
Цви Миркин
Редактор Свен Кузминс
Литературный редактор Анна Трудолюбова
Дизайнер обложки Том Трейбергс
Предисловие Свен Кузминс
© Цви Миркин, 2017
© Том Трейбергс, дизайн обложки, 2017
ISBN 978-5-4483-9314-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Иногда говорят, что хорошая мысль приходит к человеку целиком и сразу. Даже Веничка Ерофеев утверждал, что писал книгу «Москва—Петушки» «нахрапом» – взял, придумал и чуть ли не на одном дыхании наверстал целый ряд мыслей на одну прочную идею. Однако это не противоречит давно известному и не раз проверенному на практике утверждению из той же книги, что в жизни все должно происходить медленно и неправильно. Именно так появилась рубрика «Занимательная гебраистика» – медленно, неправильно, но при этом совершенно внезапно.
С ее сотворением вообще связана довольно разветвленная история. Началось все с того, что Цви Миркин в шутейном разговоре поставил редакцию журнала «Rīgas Laiks» в известность о наличии в иврите слова «кибенимат». Нетрудно догадаться, что данный термин обозначает некое абстрактное пространство или направление, куда в случае необходимости посылают, причем не только носителей современного иврита. Также нетрудно догадаться о происхождении этого слова. Редакция, будучи неподцензурным оплотом живого русского языка, сошлась на мнении, что это прекрасно, и поинтересовалась, есть ли в иврите ещё похожие случаи. Цви заверил, что есть. В итоге он написал длинную-таки статью о таинственном Кибенимате в частности и русских словах в иврите в целом. Статья довольно долго пролежала в редакции. Ходят слухи, что на одном культурном мероприятии автор (уже под утро) встретил одного из стражей живого русского языка и спросил: «Ну, как там моя статья?» на что получил прозаический ответ: «Да говно твоя статья, пойдем лучше коньяку выпьем». Коньяку выпили, о статье подзабыли. Хотя это не совсем верно. Время от времени о ней вспоминали, но не могли понять, чего же в ней не хватает. И тут я зашел в широко известное в узких кругах кафе «Muklājs», которое Цви иногда обозначает кодовым названием «известное место», и у нас с ним завязался разговор на тему рождения нового языка. За пределами филологического сообщества бытует представление, что новый язык рождается при участии неких высших сил в условиях исключительной духовности и почти без вмешательства человека. Однако на практике и этот процесс движется медленно и неправильно. Мало того, простой язык повседневного обихода рождается в народе, а народ, как правило, не всегда озадачивает себя скрепами рациональности и филологическими изысками.
Слово за слово, мы пришли к выводу, что история одного языка требует многосерийного изложения. Некоторого рода целенаправленности во времени. И идея «Гебраистики» тут же нахрапом возродилась и была перенесена в пространство интернета – ближе, что называется, к общественности, в «известные места». Древний язык, постепенно обретающий современную форму, в некотором смысле сам превратился в литературного героя. А то, что по средам публикуется на сайте rigaslaiks.ru под лозунгом «Занимательная гебраистика», уже к своему четвертому выпуску обрело собственную форму и естественным путем превратилось в самобытный мини-жанр филологического юмора.
Собственно, жанр продолжает существовать не только в интернете. В этой книжке собраны первые тридцать выпусков «Занимательной гебраистики», охватывающие происхождение самых важных и необходимых понятий в современном иврите – фамилий, автомобильных запчастей, официальных званий, близких родственников, терминологии вселенной «Звездных войн» и, помимо прочего, Кибенимата. Куда уж без него.
Свен КузминсО роли городского сумасшедшего в истории иврита
Оноре де Бальзак писал в романе «Отец Горио»: «Одним из преимуществ славного города Парижа является возможность в нём родиться, жить и умереть так, что никто не обратит на вас внимания». Элиезер Бен-Йехуда родился не в Париже, а в местечке Лужки Виленской губернии. Умер он вообще в Иерусалиме – столице, на тот момент, британской подмандатной территории Палестина. В Париже он только жил, причём недолго – с 1878 по 1881 год. И за эти три года сполна использовал возможность быть никем не замеченным. Заметили его позже – когда он переехал из Парижа в Иерусалим и выдвинул совершенно сумасшедшую идею.
Он предложил евреям перейти на иврит в повседневном общении. Евреи, услышав об этом, покрутили пальцами у виска – иврит многие, конечно, знали, умели на нем читать и даже писать, но идея обсуждать на нем бытовые вопросы – типа цены на огурцы в ближайшей лавке – не приходила никому в голову почти пару тысяч лет, с тех пор, как население римской провинции Иудея незаметно перешло с иврита на арамейский.
А при чем, собственно, тут Париж? Да при том, что именно в Париже Бен-Йехуда, судя по его собственным воспоминаниям, впервые в жизни побеседовал на иврите. Просто так, со знакомым в кафе. И именно там он написал (причем, на том же иврите) статью, в которой впервые предложил начать использовать иврит в повседневной жизни. Статью, в полном соответствии с высказыванием Бальзака, практически никто не заметил, но ее автор оказался весьма настойчивым.
Из Парижа – одного из центров мира – он переехал в Иерусалим, захолустный город захолустной провинции неуклонно приближающейся к закату Османской империи. Жившие там евреи отлично знали, что иврит – священный язык, на котором негоже говорить о низменном. Приехав в Иерусалим, Бен-Йехуда немедленно шокировал общество, объявив, что будет пользоваться в повседневной жизни только ивритом. И стал настаивать, чтобы в школе, куда он нанялся работать учителем, часть предметов стала преподаваться на иврите. Даже с новорожденным ребенком он говорил только на иврите – чтобы тот стал первым за почти две тысячи лет евреем, родным языком которого будет иврит. Вот тут-то его и заметили.
Большинство, как уже было сказано, покрутило пальцем у виска, решив что речь идет об очередном городском сумасшедшем – а некоторые даже сочли его ниспровергателем устоев. Нашлись, однако, и такие, которые отнеслись к его идеям с некоторым интересом, но отметили наличие весьма серьезной технической проблемы – в святом языке банально не хватало слов. Бен-Йехуда и сам обратил на это внимание – он смог бы объяснить ребенку сложные теологические вопросы, но пока что были актуальны вещи гораздо более простые. Например, слов, обозначающих «куклу» или «мороженое» в иврите просто не было. Проблема была решена в стиле, свойственном Бен-Йехуде – он занялся усовершенствованием правил словообразования и изобретением новых слов.
Бен-Йехуда придумал более двухсот слов, большинство из которых используется в иврите до сих пор. А еще он начал составлять полный словарь иврита. Придумывая же новые слова, он успел охмурить еще нескольких человек, составивших вместе с ним «Комитет языка иврит». Теперь они придумывали слова вместе. А еще они стали издавать еженедельную газету – само собой, на иврите. Через неё они, в частности, знакомили общественность с придуманными ими неологизмами.
Дело продвигалось не особо быстро – в лучшем случае каждые несколько лет им удавалось убедить перейти на иврит примерно одну семью. Но, как обычно и бывает, помогли непредвиденные и напрямую не имеющие отношения к возрождению иврита обстоятельства. В Российской империи прошла волна еврейских погромов, и немалое количество молодежи, уже ознакомившейся с появившейся незадолго до того идеей сионизма, отправилась в Палестину. Где ими и была горячо воспринята идея Бен-Йехуды о том, что иврит – единственный язык, объединяющий все еврейские общины. Неожиданно на иврите заговорило гораздо большее количество людей. Язык распространялся настолько хорошо, что в 1921 году англичане, получившие мандат на управление Палестиной, объявили иврит одним из трех её официальных языков. Бен-Йехуде и его сторонникам пришлось еще более активно заниматься приспособлением языка к реалиям ХХ века. Как это делалось – тема для отдельного разговора.
О слиянии бюрократии и искусства
Бенджамин Дизраэли как-то заметил: «Великий город, образ которого живет в памяти человечества, представляет некую великую идею. Рим символизирует завоевание; над башнями Иерусалима витает Вера; а Афины воплощают исключительное качество античного мира – Искусство».
Во времена Дизраэли в Иерусалиме действительно преобладала вера – даже османский губернатор Палестины располагался не в Иерусалиме, а в Рамле – заштатном городишке недалеко от побережья. Роль градообразующего предприятия играли святые места трех религий, а еврейское население Иерусалима, относительно небольшое, в основном посвящало время молитвам. Жизнь текла тихо, спокойно и неторопливо, но тут в городе появился возмутитель спокойствия – Бен-Йехуда, а вслед за ним и другие дополнительные переселенцы, не желавшие встраиваться в традиционный ритм жизни города. Одной веры им явно не было достаточно – они предпочитали искусство и науку, по непонятным причинам не упомянутую Дизраэли. Причем искусством и наукой они стремились заниматься исключительно на иврите.
Но словарного запаса древних или средневековых текстов на иврите, и слов, придуманных Бен-Йехудой, для этого не хватало. Когда вокруг Бен-Йехуды собралась группа последователей, они образовали «Комитет языка иврит» и поставили изобретение новых слов на поток. Темп работы резко ускорился после того, как в 1921 году британский Верховный комиссар Палестины объявил иврит одним из трех официальных языков подмандатной территории. На иврит была переведено делопроизводство – для этого были необходимы слова, которые в древней Иудее явно придумать не могли. Трудно представить начальников управлений, писавших во времена Хасмонеев инструкции и докладные записки.
В 1925 году был сделан еще один шаг, приблизивший Иерусалим к данному Дизраэли определению Афин – был основан университет, полное название которого – «Иерусалимский ивритский университет». Так как университеты состоят не только из студентов и профессоров, но и из управляющего персонала, можно сказать, что новая институция объединила две могучие силы – искусство и бюрократию. Кстати, перечисляя великие идеи, бюрократию Дизраэли упомянуть забыл – хотя есть основания полагать, что появилась они никак не позже других великих идей, если не раньше. Волшебную же силу искусства, помноженную на мощь бюрократии, остановить уже ничто не могло.
Принцип был прост – чем меньше неивритских слов, тем лучше. Проблема отсутствия нужных слов в иврите решалась проверенным методом, предложенным Бен-Йехудой – слова придумывались. Их, конечно, не брали с потолка – хотя и так тоже бывало. Часть слов создавалась по существующим ивритским правилам словообразования. Когда имеющихся правил не хватало – придумывали новые. Часть – путем банальной кальки с какого-либо европейского языка, но с использованием ивритского корня. В ряде же случаев проблема решалась при помощи изменения «традиционного» значения – так, словом «алуф», обозначавшим в древности племенного вождя, стали именовать генералов в армии и чемпионов в спорте.
После провозглашения независимости Израиля процесс был институализирован еще больше – полуофициальный «Комитет языка иврит» превратился во вполне официальную «Академию языка иврит». Сочетание искусства с бюрократией стало практически идеальным – сначала профессора-гуманитарии придумывали новые слова, а потом бюрократы рассылали по госорганизациям и средствам массовой информации указания об их использовании. Три десятка лингвистов, назначенных заведовать словообразованием, развернулись вовсю – до такой степени, что в иврите появились «свои» термины для ядерной физики. Но, видимо из-за больших объемов работы, они забыли об одной мелочи – придумать ивритский аналог для слова «академия», так что в официальном названии органа, ответственного за расширение словарного запаса иврита, до сих пор сохранилось слово иностранного происхождения…
Средний класс и вопросы языкознания
По весьма ядовитому замечанию Джорджа Оруэлла, «Представителям среднего класса, кроме правильного произношения, терять нечего». Это заявление, возможно, было на тот момент справедливым для европейских стран, где средний класс и правильное произношение уже давно сформировались. В еврейской же общине Палестины в первой четверти ХХ века не было ни среднего класса, ни правильного произношения.
Проблема со средним классом как-то решалась – он постепенно появлялся. С правильным произношением дело обстояло гораздо хуже.
По мнению идеологов сионизма, иврит символизировал не только единство различных еврейских общин, но и преемственность по отношению к древнему Израильскому царству. Вот только никто не знал, какое во времена Израильского царства было произношение – звукозаписей по понятным причинам не сохранилось. Произносить-то, конечно, произносили – хотя бы для того, чтобы читать Пятикнижие и молитвы в синагоге, но и тут никакого порядка не было. У ашкеназов – евреев Германии и Восточной Европы – была одна традиция произношения, у сефардов – евреев Северной Африки – другая, у евреев Ближнего Востока – третья. А евреи в Йемене произносили вообще так, что их не понимали ни сефарды, ни ашкеназы.
Инициаторы возрождения иврита стояли перед непростым выбором. Норма произношения была необходима хотя бы для того, чтобы не тормозить процесс формирования еврейского среднего класса в Палестине. Но надо было решить, какую из традиций признать нормативной. Волевым решением Бен-Йехуды нормативной была объявлена сефардская традиция – и к ней стали приучать детей в первых появившихся в Палестине ивритских школах.
Но возникла новая проблема, и с совершенно неожиданной стороны. В начале 20-х годов началась новая волна репатриации – в основном, из Восточной Европы. Причиной этой волны послужило не столько желание переехать на землю предков, сколько введение в 1924 году Конгрессом США въездных виз и ограничений на иммиграцию. Языки у новоприбывших были разные, и, чтобы общаться между собой, они постепенно начали учить иврит. С произношением, правда, дело не заладилось. Они говорили на языке предков с самыми разными акцентами – польским, немецким, русским, венгерским, но не с тем, который последователи Бен—Йехуды считали нормативным.
Помимо многочисленных акцентов, эти репатрианты обогатили иврит рядом новых выражений – кальками с их родных языков. Так как большинство переселенцев были из Польши, то выражения польского происхождения преобладали над прочими. В иврите появились «жёлтый сыр» – в смысле, обычный, твёрдый, и «белый сыр» – то есть творог. Напиток, именуемый «кофе латте», на иврите стали именовать «перевёрнутым кофе». А «европейский» новый год, евреями в Палестине не отмечавшийся по причине наличия своего в середине сентября, стал именоваться «Сильвестром».
В израильской истории репатрианты этого периода известны как «репатрианты газированной воды» – не разделяя убеждения своих предшественников, что приличный человек должен заниматься исключительно тяжёлым физическим трудом в сельском хозяйстве, они пооткрывали в городах разные магазинчики, среди которых преобладали киоски по продаже газированной воды. Это уже были явные признаки формирования среднего класса – но правильного произношения ему, всё же, не хватало. Не хватало настолько, что даже герои фильма «Эта страна», снятого в 1935 году отцом—основателем израильского кино Барухом Агадати, говорят с сильным акцентом – кто с русским, кто с польским.
Дети этих репатриантов, однако, пошли уже в ивритские школы, где слышали от учителей иврит без акцента. К 1948 году, когда была провозглашена независимость Израиля, они уже успели закончить школы, поэтому в новый период своей истории страна вступила с уже сформировавшимся средним классом.
Кибенимат
Жюль-Анри Пуанкаре говорил: «Писатели, украшающие язык и относящиеся к нему как к объекту искусства, тем самым делают из него орудие более гибкое, более приспособленное для передачи мысли».
По поводу писателей великий математик был, безусловно, прав. Но необходимо отметить, что им никоим образом не принадлежит монополия на превращение языка в орудие более гибкое – хотя, имеющие отношение к этому почтенному занятию не-писатели, похоже, не особо задумываются об украшении языка и сосредотачиваются исключительно на его функциональности.
Евреи, репатриировавшиеся со всего мира сначала в Палестину, а потом в Израиль, об украшении языка в большинстве своём не думали – сначала надо было этот самый язык освоить. Начинали все, понятно, с красивого, литературного, в первые годы – почти что библейского иврита. Но практическая деятельность требовала дополнительных языковых инструментов, подходящих для различных непредвиденных ситуаций.
Вот с этим-то и были проблемы. Академия языка занималась самой разной лексикой, но игнорировала тот её пласт, который используется в моменты, когда требуется краткое и ёмкое выражение эмоций. Привело это к тому, что за повышение гибкости иврита взялись широкие массы его носителей.
Поскольку родным их языком иврит, как правило, не был, иногда они забывались и дополняли разговор на иврите теми или иными терминами из своих родных языков, не особо заботясь о стилистических изысках. Особо же удачные выражения перенимали и те, для кого иврит был родным, не очень заботясь при этом о точности передачи.
Одним из таких примеров является появление в иврите воспетого легендарным Барковым известного русского выражения, в котором упоминались родственники по женской линии. Неизвестно точно, когда оно попало в иврит. Судя по всему, достаточно давно, потому что успело измениться до неузнаваемости и превратиться в одно слово, звучащее на иврите как «кибенимат». Значение при этом осталось практически тем же, что и в языке оригинала: кибенимат – это то, туда посылают. Правда, вместе с изменением формы изменилась и степень ненормативности – в иврите это слово, конечно, не относится к изысканному языку, но и на табуированность не тянет.
Иногда происходили более запутанные трансформации, в которых участвовали несколько языков сразу. Например, идишское слово «лох» – «дыра», объединившись с одним из основных русских нецензурных слов, образовало чисто ивритский термин «пизделох», обозначающий что-то очень далекое. Что-то типа мыса Дежнёва. Или того места, куда Макар телят не гонял.
Хотя авторы этих лексических единиц остались безымянными, можно предположить, что писателями они не были. К языку они явно не относились как к объекту искусства, но однозначно сделали его более гибким. И даже можно утверждать, что некоторым образом его украсили.
Чимидан
По утверждению Айзека Азимова, «У людей есть тенденция хвалиться, что они лучше соседей, что их культура древнее и выше, чем на других планетах, что всё хорошее на других мирах заимствовано у них, а плохое искажено и испорчено при заимствовании, либо изобретено где-то в другом месте». Об отношениях с другими планетами, несмотря на впечатляющие успехи Элона Маска в области освоения космоса, говорить пока что преждевременно, а вот заимствования – тема вполне актуальная, хотя и происходят исключительно в рамках одной планеты. Это, конечно, совсем не те расстояния, о которых писал Азимов. Какие-то несколько сотен или даже тысяч километров – это ничто по сравнению с парсеками или световыми годами, но и на таких расстояниях могут происходить загадочные вещи.
Когда заимствования проходят относительно прямой путь, это не вызывает никаких вопросов. Слово может возникнуть в Польше или в России в незапамятные времена, проникнуть из русского или польского языка в применявшийся в данной местности диалект идиша, с его носителями добраться до Палестины, а там уже войти и в иврит, в котором, несмотря на древность, не нашлось адекватного аналога. Но легких путей не ищут не только люди, но и слова. Более того – иногда у слов просыпается страсть к приключениям.
Одно такое слово появилось в языке фарси. Звучало оно как «балахана» и значение имело весьма банальное – «комната над главным входом» или же просто «балкон». Пользовались им там, где говорят на фарси – то есть в Иране, но тут в дело вмешалась политика. С Ираном соседствовала Османская империя, с которой Иран то торговал, то воевал. Соответственно, постоянно соприкасались и носители языка. Постепенно обсуждаемое слово перекочевало в турецкий язык, несколько изменило звучание, затем переместилось в русский, но уже с другим значением. Толковый словарь определяет «балаган» как «временную постройку для увеселительных, ярмарочных зрелищ». Как-то незаметно это слово стало обозначать и беспорядок – и именно в этом значении так полюбилось некоторым жителям «черты оседлости», что, переехав подальше от ограничений на право проживания и процентных норм в Палестину, они продолжили его употреблять. Самое при этом забавное, что произошло это, судя по всему, ещё в те времена, когда Палестиной управляла Османская империя – так что слово, изменив значение, повторило часть маршрута, только в обратную сторону. Можно, конечно, предположить, что евреи, приехавшие из Восточной Европы в Палестину, уже там заимствовали это слово у турок, но против этой гипотезы говорит тот факт, что слово «балаган» применяется в современном иврите в том же значении, что и в разговорном русском языке – то есть, для обозначения беспорядка.
Иногда прохождение подобного сложного маршрута сопровождалось меньшими изменениями. Носители фарси издавна хранили одежду в «чамадане» – что, собственно, и значит «хранилище одежды». Носители русского языка одежду в чемоданах уже не хранили, а перевозили с места на место. «Чемодан» прошёл путь не менее длинный, чем «балаган» – промежуточной остановкой были тюркские языки. От русского языка путь до местечек Восточной Европы был относительно короток, а оттуда уже – в Палестину. Правда, на этом отрезке пути слово стало звучать как «чимидан» и обозначать исключительно большую сумку с двумя ручками, да и в правах оказалось поражено – так и осталось в рамках сленга и не попало в литературный язык, где безраздельно господствует ивритское слово «мизвада» (с ударением на последний слог), обозначающее то же самое. Что, в общем, вполне соответствует принципу, сформулированному Азимовым – своё слово круче, а сленговое и не употребляемое в высокой речи – изобретено где-то за тридевять земель.
Бабушка
Наслушавшись в ходе путешествия по Европе немецкого языка, Марк Твен написал: «Некоторые немецкие слова настолько длинны, что их можно наблюдать в перспективе. Когда смотришь вдоль такого слова, оно сужается к концу, как рельсы железнодорожного пути».
Есть все основания предположить, что такое же впечатление о немецком языке сложилось и у живших в Палестине евреев, когда там в 30-е годы ХХ века появились первые репатрианты из Германии. Первое поколение носителей иврита, привыкшее к тому, что слова состоят, как правило, из двух-трёх слогов, а небольшой их процент – их четырёх, вдруг столкнулось с языком, слова в котором могут занимать полстроки, если не целую строку. До обсуждения грамматических тонкостей типа «разделяющихся глаголов» и сложноподчинённых предложений в треть страницы дело, скорее всего, уже не дошло – хватило длинных слов.
Тем не менее, до полного антагонизма между теми, кто привык к коротким словам, и теми, кто пользовался, в основном, длинными, не дошло. Разница в длине слов не помешала процессу интеграции репатриантов из Германии. Тогда же и обнаружилась и неожиданная точка соприкосновения – оказалось, что в немецком языке есть слова, длина которых гораздо меньше, чем половина строки. Нашлись также несознательные граждане, которые проигнорировали стремление «Комитета языка иврит» минимизировать использование в иврите заимствований, и взявшие некоторые из этих слов на вооружение.
В соответствии с утверждением, что немцы – народ, склонный к технике, немалая часть этих слов к технической сфере и относилась. Например, слесарь-сантехник получил красивое наименование «инсталлятор», и, как правило, именуется так до сих пор, несмотря на изобретение Академией языка не менее красивого термина «шраврав». Изоленту несознательные носители иврита до сих пор называют «изолирбанд», а «дворники» автомобиля – «вишер».
Не всё, однако, было так просто. Некоторые слова, которые формально пришли в иврит из немецкого, на самом деле воспользовались языком Шиллера и Гёте исключительно как пересадочной станцией, после чего ухитрились замести следы и уничтожить всякие свидетельства пересадки.
Одним из таких слов, вполне прижившихся в иврите, является слово «бабушка» (с ударением на второй слог). Вопреки ожиданиям, оно обозначает совсем не то мифологическое создание, которое не оставляет попыток поймать своего еврейского внука, надеть на него три дополнительных свитера и принудительно накормить куриным бульоном. На современном иврите данным словом (подчеркнём ещё раз, с ударением на второй слог) обозначается произведение русского народного промысла, известное в большинстве стран как «матрёшка» (matryoshka doll по-английски, matrjoschka по-немецки, poupées russes по-французски). Иврит же в данном случае решил пойти по более оригинальному пути – он заимствовал не оригинальное наименование и не его форму, адаптировавшуюся к какому-либо ещё языку, а дополнительное наименование, существующее в немецком – Babuschka-Puppe. При этом память об этом заимствовании стёрлась настолько хорошо, что абсолютное большинство носителей иврита страшно удивились бы, узнав, что слово это пришло, собственно, из немецкого, а по-русски эта игрушка называется совершенно по-другому.