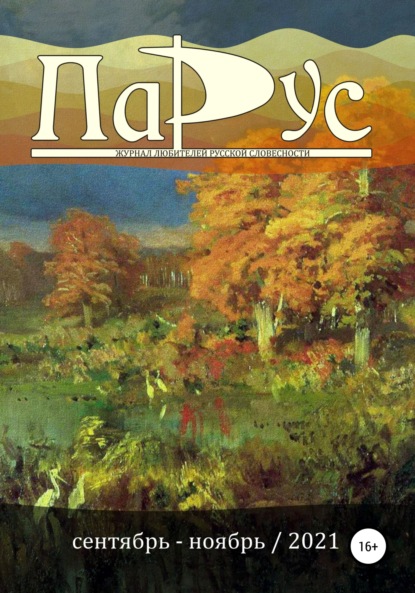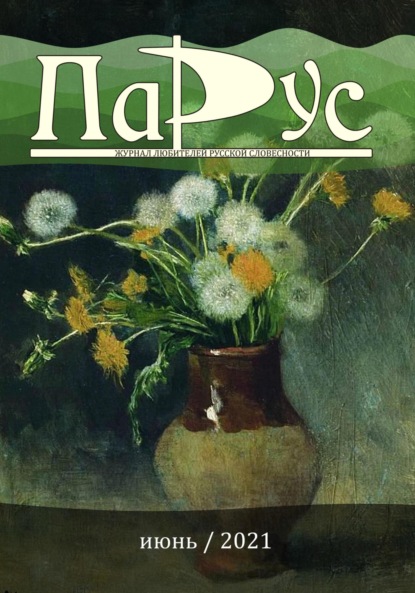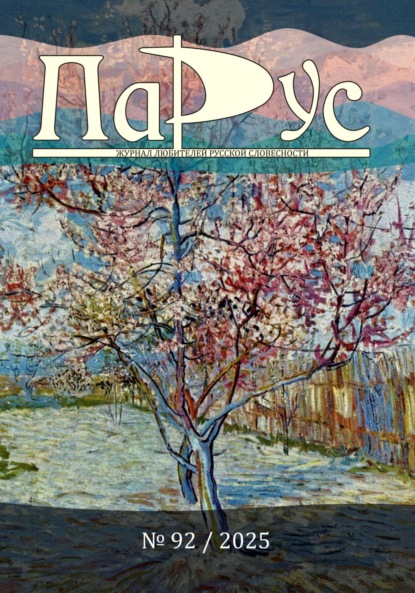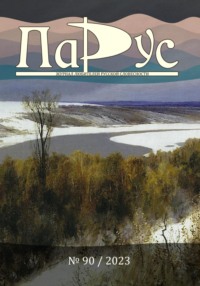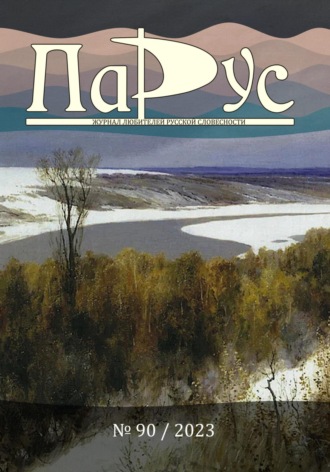
Полная версия
Журнал «Парус» №90, 2023 г.
Мужики, вместе со мной слушающие рассуждения Сергея, только головами крутят от такой учености. А сам он, видимо, рад, что нашел подходящего слушателя. Из ямы слышится:
– …только дня через три-четыре он осознает, что он мертв… Тут-то оно и начинается, пребывание в Бардо. Духовное тело скитается там сорок девять дней, пока не найдет себе новое материнское лоно. Вообще, «Книга мертвых» трактует так, что самое лучшее – не рождаться снова, постараться остаться в том мире. Но это мало кому удается, в основном, все рождаются опять и опять. Это – Сансара, колесо рождений…
…и ни слова о Христе не слышно на месте будущего погребения, никто из копалей даже ни разу не перекрестился – словно православие никогда и не заглядывало в эти места.
Да, но разве эти люди – бездуховны? разве сам факт их присутствия здесь, их добровольной тяжелой работы – не показатель их принадлежности к тому царству человеческого единения, где нет ни эллина, ни иудея? И разве мой папа, не крещеный и не веривший в Иисуса Христа, не будет спасен?
Если – нет, то зачем мне такая вера? А если – да, если человек, не умеющий перекрестить лба, тем не менее, добр, честен, праведен, то…
«То зачем нужно христианство?» – думаю я вдруг.
И тут же поправляю сам себя: нет, наверное, именно века христианства и сформировали наш народ вот таким – некорыстным, милосердным, отзывчивым к чужой беде. А семидесятилетние гонения на русскую православную церковь уничтожили у нас – или почти уничтожили – одну лишь обрядность и прочую внешнюю атрибутику православия. По глубинной же своей сути мои соотечественники – и сейчас те же самые, какими были до Октябрьского переворота. И все эти увлечения чужими верованиями – лишь нечто временное, наносное, не затрагивающее наших душевных основ…
Могила готова – и мы садимся в траву под березой, дабы «обмыть это дело». Водка не пьянит, только теплая волна на минуту накрывает меня с головой – и, схлынув, уходит куда-то. Говорим о Феликсе Михайловиче: будь он сейчас с нами, уж непременно опрокинул бы стопочку, с удовольствием поболтал, обсудил все эти вопросы. А быть может, он и в самом деле сейчас где-то здесь, рядом? Ведь тут, на майской земле, так славно веет сейчас теплый ветер, так плавно качаются зеленые ветки, так добры и чисты грубые лица людей, только что соорудивших последний приют для оставленного душою праха. Сядь с нами, папа, подними стопку любимого яда – выпьем за твой вечный покой, за твое избавление от земных страданий…
Черный комок мелькает среди зеленых веток, остроклювое любопытное существо глядит не мигая на нашу трапезу… кыш!
Смотри-ка, она не боится, она и не думает улетать. Стоп, мужики, не будем ее пугать, не надо. Быть может, это совсем и не ворона, не только ворона… Папа-папочка, немного дал тебе Бог – ту же черную фуфайку, ту же перелетную судьбу. Что делать!.. получаем то, что заслужили. Не улетай, побудь с нами еще немного, покачиваясь на ветке и нацеливаясь круглым своим зраком на кусок черного хлеба…
В последний путь… Раскаленное небо, слепящее солнце, белые клубы пыли. Натужный рев мотора, остолбенелые лица встречных, палисадники, наличники, крыши. Расплавленный слезящийся диск, черные силуэты деревьев, серые окна, лица, глаза. Каменные скулы покойника.
Лица братьев матери – круглые, мелкоглазые, заячьи. Автохтонное население Верхневолжья, угро-финны, племя весь, – вот кто мы такие. «Обряд погребения у племени весь». Или так: «Мимика, выражающая горе, у представителей племени весь».
Завывание мотора, пыль, зной. Вот так однажды повезут и меня. Еще не скоро. А этих уже скоро. О чем они думают, качаясь в кузове грузовика и держась друг за друга на шаткой лавке?
Вот, Феликс умер… Нина одна остается. Дом, видно, продавать будет. Дом-то хороший, большой, тысяч сто пятьдесят дадут. А может, и все двести. Да что сейчас на эти деньги купишь… Рановато помер Феликс, рановато. Что делать, сердце износилось. Касьянов год. Все там будем, не минуем.
Застывшие лица встречных. Кого это хоронят-то? А!.. это того мужика, у которого дом-то с птицами. Так ведь он же не больно и старый был. Больной? А-а-а… А дом-то у него хороший, большой, – продавать будут теперь, аль нет? Это жена сидит, а рядом-то сыновья, видать. Без музыки нынче хоронят – знать, дорого…
Лицо отца – холодный тесаный камень. Твердо сжаты губы, в бескровных чертах – выражение собранности и решимости. На что ты решился, папа? Я вижу – ты уже далеко от нас, далеко-далеко…
Не жмет ли тебе крестик? Я все-таки надел тебе его, уж прости, снял с себя и надел, а веревочка оказалась коротковата, сразу врезалась в шею. Прости меня, ты, может быть, был бы против, но я все-таки надел…
Последние поцелуи. Уверенная речь «представителя общественности». Стук земли о крышку гроба. Всё, как у людей.
Поминки. Люди идут и идут, не хватает места. Милые, так вы все любили папу? Дайте, я вас поцелую! У всех налито? Давайте помянем Феликса Михайловича. Валера, Сережа, Коля, спасибо вам за всё, куда бы мы без вас… выпейте!
Да, хорошая смерть, легкая смерть. Сам не мучился и других не мучил.
Нет, как же это так? Ведь я с ним совсем недавно разговаривал, он и шутил, и смеялся, как всегда… как же это?
И к каждому-то он умел подход найти, такое слово сказать, чтобы человек заинтересовался… И о политике мог поговорить, и о деле, интересно было с ним… Не плачьте, Нина Александровна, дай Бог каждому так уйти. Детей вырастили, дом у вас прекрасный…
Спасибо вам, добрые люди, что вы пришли и помогли нам. Дай вам Бог счастья за ваши добрые слова и дела, за помощь.
Вот и всё. Теперь я могу лечь навзничь и провалиться во тьму. «Поминальный обряд племени весь» завершен.
…когда я могу позволить себе напиться до бесчувствия – всегда напиваюсь. Хотя вообще-то к спиртному меня не тянет, месяцами могу не пить. Все-таки зачат я был в трезвости и выпивать начал очень поздно, это сказывается…
Совсем не пить? Но ради чего?
_________________________________
Встаю совершенно разбитый, мятый, со страшной головной болью. Долго не могу подняться с постели, вяло одеваюсь, с трудом отвечаю матери.
Время – восемь часов вечера; все, кто приходил на поминки, уже разошлись по домам, мамины родичи вместе с Андрюхой уехали на последнем автобусе. Посуда вымыта, лавки и табуретки унесены. Мать наливает мне горячего чаю – и я, мало-помалу, оживаю.
– Пошли, погуляем, – предлагаю я. – Погуляем, поговорим…
Мать соглашается.
Медленно идем вечерним селом, удаляясь от центра к лесу. Сумерки; кой-где на небе поблескивают звездочки; тепло и тихо. Мама в который раз рассказывает о подробностях папиной кончины, пытаясь угнездить в своем сознании новость, резко меняющую ее жизнь.
– …а Баруздин говорит: надо унести его домой. Тут у кого-то были носилки медицинские, вот на этих носилках унесли его домой, положили на крыльце. Коля говорит: надо его обмыть да одевать, а то закостенеет. Решили не мыть, – он недавно из бани, – а только обтереть мокрой тряпкой. Баруздин его раздел догола, снял с него свитер, носки, «гамаши» – он в последние годы всегда тепло одевался. А Тамара Лесовая с Толей – обтерли. Коля мне говорит: ищи белье чистое. Дала я новые трусы, майку, рубашку, достала новый серый костюм. Расческу положила в карманчик, носовой платок новый. Коля говорит: давайте его вытащим на веранду. Вынесли стол из передней комнаты и поставили на веранду, положили Феликса на него. Рот полотенцем подвязали, а то он был полуоткрыт…
Врач-то пришел только через два часа после смерти! Я ему говорю: а могла бы я спасти его? Вот если бы я что-то сделала такое, чтобы он очнулся, да еще пожил, а? А он мне говорит: не терзайте себя. Если бы, – говорит, – его даже оживили в этот раз, он бы недолго прожил. Такие больные после реанимации живут год-два…
Ну, пришли еще люди… Галя Баруздина дозвонилась до Рыбинска, до какого-то вахтера, а тот позвонил тебе. Любе я дала все адреса, она пошла телеграммы давать. Всё делалось… Тамара Лесовая сидела со мной до твоего приезда. Потом ты приехал, пошел к Феликсу на веранду, поплакал…
На улице уже совсем темно, да и зябко – вечерняя свежесть превозмогла тепло мая. Идем с матерью по окраине села, под яркими звездами, я обнимаю ее за плечи. Какая же она маленькая и слабая!.. как она будет без папы?
От выпитого на поминках меня всё еще пошатывает, голова прямо-таки раскалывается. Вяло слушаю мать, рассказываю сам – о том, как получил горестное известие, как спешил на вокзал, ехал в поезде, плакал в тамбуре, как бежал через ночной лес…
Возвращаемся домой, пьем чай. Дома тихо и тепло, всё на своих местах, ничего не изменилось. Да и что могло измениться? Сидим с мамой на кухне, за столом, – и говорим, говорим…
Далеко за полночь кто-то стучит в окно. Ледяная дрожь мгновенно пробегает по моему телу, я сразу трезвею. Выхожу на улицу, словно в космос; мать за мною… Кто тут?
…озаренная сбоку слабым зеленоватым светом месяца, в черной тени сарая горбится чья-то фигура.
– Дай Феликса помянуть! – глухо требует пропитой женский голос.
– Нет!.. нет, не надо ее, я ее знаю, – шепчет мать гневно, – это пьянчужка местная. Ходит, просит… иди, иди отсюда!
Фигура молча поворачивается и бредет к калитке.
– Нет, нет, стой! – кричу я отчаянно. – Сейчас, сейчас дам помянуть!..
– Не надо, не надо! – хватает мать меня за рукав.
– Ты что, – яростно шепчу я, – не дай Бог! Ни в коем случае! А вдруг это… ты что? Это Бог посылает, нельзя!
Опрометью метнувшись в избу, подскакиваю к холодильнику, наливаю стопку водки, хватаю кусок хлеба и возвращаюсь на улицу.
– Помяни, помяни папу, – со слезой говорю я. – Помяни Феликса Михайловича!
– Ничего не Бог… – ворчит мать, уступая. – Всяким подавать…
«Синюшке» охота поговорить. Долго рассказывает о своем сыне, тянущем очередной срок, то и дело благодарит меня, обдавая перегаром. Наконец, уходит восвояси – и я, облегченно вздохнув, запираю двери. Мать ворчит; но я нисколько не сомневаюсь, что это был знак от папы, своеобразная проверка. И я ее выдержал – поступил так, как непременно поступил бы он сам в подобной ситуации.
Измученный тяжким днем, ложусь на отцовскую постель. «Папа, приснись, – шепчу в темноту, – приснись мне. Как ты там, папа? Приди ко мне, расскажи… папа, милый…»
…серый сарай-дровяник, тусклый свет из засаленного окошка; за окошком – груда бревен, на бревнах – черная собака. До собаки метров пять-шесть.
«А ведь я могу коснуться ее руками, не вставая с места», – мелькает в моей голове. Но не руки, а две гудящие, вибрирующие силы выходят из моих плеч, легко проникают сквозь стекло, движутся к собаке…
Собака исчезает. Но я уже понял, каким свойством теперь обладаю. А ну-ка, еще раз… Вон деревце растет за окном – смогу ли я заключить его ствол в кольцо моих пальцев?
И вновь мои «руки», – две вибрирующие мощные струи, – гудя, проходят сквозь невредимое стекло, и я смыкаю свои кисти вокруг тонкого ствола.
Значит, я могу… всё? И – летать?
Лежу на спине, – нет, не лежу, а лечу куда-то, головой вперед, подхваченный могучим потоком. Мое тело – конусовидный, еле слышно гудящий, вибрирующий цилиндр длиной метра три-четыре и диаметром около метра – этакий могучий катер, послушный малейшему моему желанию.
«Ну, вперед…» – думаю я.
И стремительно возношусь, словно на качелях, – вперед и вверх, наискосок, легко проходя сквозь потолок и стропила крыши, – вперед, в ночную тьму…
И тут же ужас охватывает меня. А вдруг я не сумею остановиться и меня зашвырнет в неведомую глубину, в дальний мрак?.. Стоп!.. Назад!
Могучие качели швыряют меня обратно – сквозь темную даль, сквозь стропила и потолочные бревна… Да, я могу летать! – сквозь всё на свете, на тысячи километров, куда захочу… Что же это такое?.. кто я?
И вот опять меня несет куда-то… куда? Куда-а-а-а-а…
Просыпаюсь от собственного хриплого крика – и рассказываю сон дремлющей на соседней койке матери, – чтобы не забыть утром. А в голове стучит: так вот чем ты занят, папа… Ты осваиваешь новое тело, новый мир. Тебе сейчас не до нас, у тебя другие проблемы, ты родился для новой жизни…
И все-таки на мгновение ты убрал дремучую стену времени и показал мне, как там, и что. Спасибо, папа, теперь я знаю…
Если хоть одна из моих дочерей будет после моих похорон сильно жалеть обо мне, будет плакать и, засыпая в слезах, попросит меня придти – я тоже непременно это сделаю. Изловчусь, упрошу, умолю – но уберу проклятую стену и покажу дочери что-нибудь из той жизни… Пусть знает, что небытия – нет!
Небытия – нет, есть только боль перехода, муки нового рождения, страх перед новым, непонятным и опасным миром, в котором придется быть. Но ведь таких миров, быть может, мириады… Так что же – каждый раз, переходя из одного в другой, мы обречены кричать от ужаса, представляя, что падаем в бездну небытия?
Нет, – это удел не знающих, удел бестолочей, ничему не учащихся и не желающих учиться. Брошенные в очередную судьбу, они вопят и жалуются, не умея ее принять, не умея понять, за что она им дана, за какие и чьи грехи и ошибки. А ведь интуитивно они, наверняка, чувствуют, что послужило причиной. Почувствовать очень легко: это – там, где больнее и труднее всего, где страшнее всего. И вот, вместо того, чтобы, смирившись с данной, исходной позицией, двинуться по грязной и тяжкой дороге вперед, к свету, – они опускают руки и ждут смерти. Но смерти нет, просто их отбрасывает всё дальше и дальше во мрак, унижение и боль…
Мне ли кидать в них камни? Я ведь и сам только сейчас, ближе к сорока годам, прихожу к этим мыслям – и даже до сей поры сомневаюсь в них. Но моя жизнь, чем дальше, тем чаще, полнится подтверждениями именно этих идей, – идей бессмертия души, идей существования греха и воздаяния за грех, – и как же не поверить опыту жизни? Чему же тогда верить – чьим-то словам, книгам? Но ведь это – чужой опыт! А верить можно только своему…
Жизнь идет; на другой день я уезжаю к себе в Ярославль, оставив маму на попечение Андрея, взявшего двухнедельный отпуск. И – урывками, между еженедельными поездками по своим коммерческим делам и выполнением роли няньки при полуторагодовалой Дарье, начинаю писать эту повесть. Со смертью отца во мне рухнула какая-то преграда, не позволявшая ранее взяться за это, и я пишу – вечерами, ночами, по утрам, в любую свободную минуту. Пишу, рву написанное, снова пишу, снова рву, переписываю… Постепенно устанавливается стиль – вот этот, петляющий, то и дело убегающий в сторону, – стиль реки. Через какое-то время я осознаю жанр будущего сочинения – это будет нечто в духе «Старомодной истории» Магды Сабо или катаевского «Кладбища в Скулянах», – но другое, со своими акцентами и своей сверхзадачей.
И я пишу, пишу…
Длится лето 1992 года; справляем девятый день, потом сороковой; мать начинает привыкать к одиночеству. Сначала мы строим планы немедленной продажи дома и переезда матери в Ярославль, ко мне, – но вскоре отказываемся от них. Причин много: в разгаре гайдаровская «шоковая терапия», деньги обесцениваются с каждым днем; моя жена не в восторге от совместного житья со свекровью. А главное – мама осознает, что жить в городе не так уж и сладко, особенно в нынешнее сумасшедшее время. Она решает пока что остаться в Глебове – тем более, что и без переезда у нее забот полон рот: дом, огород, куры…
В каждый мой приезд к матери мы ходим с ней на могилу папы – поливаем цветы, обмахиваем тенёта с венков, подолгу сидим у низкой оградки, разговариваем, вспоминаем. Я выпиваю стопку водки, другую ставлю на папин холмик. Здесь, среди берез, – благодать: тишина, покой, зелень. Единственное неудобство – комары, но мы уже к ним притерпелись.
Боль утраты поутихла, уступив место печальному смирению, – и всё чаще в нашу печаль вторгаются неожиданные улыбки, ибо папа «начал шутки шутить». В высокой траве рядом с оградкой мы обнаруживаем вдруг три замечательных белых гриба: один стоит отдельно – это, конечно, «мама Нина», а два рядышком, поменьше – это «Женя с Андрюшей». Такая игра бытовала в нашей семье лет тридцать тому назад, когда мы с Андрюхой были маленькими, – и так напомнить о ней мог только папа…
В другой раз он «шуткует» не столь ласково: после того, как мать, чуть-чуть выпив и разговорившись, начинает, прибирая могилу, вспоминать какие-то обиды, нанесенные ей покойным, она сильно ударяется ногой об ограду.
– А не критикуй, – говорит она сама себе, морщась от боли, – вот тебе, старая… Да, здорово, Феликс Михайлович, ты мне… – она ищет слово поточнее и, наконец, заканчивает фразу редким в ее устах матюжком.
Я помалкиваю, хотя внутренне согласен с отцом: ругать покойного, да еще на его могиле, – грех.
Папа начинает сниться маме. Сразу после похорон, дня через три, она видит сон-мгновение: папа молча сидит на стуле возле ее кровати. Это видение кладет начало длинной череде встреч. За день до сорокового дня он снится ей сидящим за кухонным столом, на своем любимом месте.
– Я не умер, я жив, – слышит она. – А то, что случилось, – это сон…
Затем загробные встречи идут полосой. То она едет с ним на каком-то пароходе: он спит прямо на палубе, и так плохо, бедно одет, что у нее сжимается сердце от жалости и стыда. Пароход подходит к пристани; «Дементьево, Дементьево», – говорят все кругом, и маме с папой тоже надо сходить на берег. То вдруг он снится ей в зимней одежде, хотя на дворе еще теплая осень, и она недоумевает, к чему бы это, – а через несколько дней выпадает ранний снег и наступают холода.
Порой она даже не видит его, только ощущает его присутствие… Постепенно она привыкает к мысли, что он действительно где-то здесь, рядом, – и это ощущение переносится ею в явь.
– Ну-ко, Феликс, давай помогай! – бросает она в пространство, когда что-то не ладится. А затем, попозже, тянет удовлетворенно:
– Ну, во-о-от… это дело мы с тобой одолели, Феликс Михайлович…
В мои сны отец приходит редко. В начале июля я вижу его впервые после похорон: он сидит за столом вместе со своим отцом – моим дедом Михаилом Андреевичем; они о чем-то спорят. Я пытаюсь принять участие в их разговоре, но они не разрешают, гонят меня, – и я просыпаюсь. «Покойники тебя к себе не пускают», – замечает моя жена, – это хороший сон.
А 3 августа, в полдень, я ложусь отдохнуть на любимый диван и, мгновенно забывшись, вижу летнее Глебово и старую родительскую квартиру при санаторно-лесной школе…
…стою в темных дверях; дверь на улицу открыта настежь, дверь в дом – тоже; так мы спасаемся от невыносимой жары. Мама – дома, в комнате; я разговариваю с ней, одновременно краем глаза наблюдая за окнами, которые мне видно через дверной проем.
– Так папа-то что – не придет? – спрашиваю я.
– Да не знаю, – откликается мать, – может, и нет…
Но тут же, заметив в одном из окошек мелькнувшую фигуру, я восклицаю:
– Да вон он идет!
В сени входит папа – загорелый, довольно бодрый, хотя и усталый. Я обнимаю его, целую, – и во все глаза гляжу на него. Так он вернулся?
Он высвобождается из моих объятий – и проходит в дом, на кухню; я – за ним. Изо всех сил всматриваюсь в его черты: какой он? Тот же самый, или?.. Он ли это?
Он, кажется, тот же самый… но вдруг, прямо на глазах, начинает меняться. Причем изменение это выражается во всё более усиливающемся сходстве со мной самим – таким, каким я себя привык видеть в зеркале: те же глаза, нос, рыжая борода…
Двумя холодными руками папа берет меня за горло – но не душит, а только держит. И вдруг начинает по-бабьи, с мамиными интонациями, жаловаться мне:
– Да вот, милый ты мой, шутка ли… от такой-то ерунды… и не болел ведь уж очень-то сильно, а вот, поди ж ты…
Он жалуется мне на то, что он умер, он говорит, что ему хотелось бы еще пожить…
И тут я просыпаюсь. Голова моя лежит на диванном валике, в чрезвычайно неудобном положении, шея болит. Рассказываю сон жене, пытаясь сразу же, по ходу дела, растолковать увиденное. Согласно Артемидору, воскресающие покойники сулят тревоги и убытки. Это-то ладно, к тревогам и убыткам нам не привыкать, но вот что может означать «узнавание в покойнике себя», «выслушивание жалоб покойника»? Этого у Артемидора я не нахожу…
Хотя разгадка так проста!
Порой меня самого удивляет та пристальность, с какой я всматриваюсь то в беглые эпизоды дневной жизни, то в смутные ночные видения. Неужели я и впрямь уверен, что всё происходящее со мной наяву и во сне имеет еще один, тайный смысл, который надо разгадывать?
Не знаю… Но уже давно не могу отделаться от ощущения, что моя жизнь, вся целиком, от рождения до смерти, уже где-то, кем-то сочинена – и я обречен проживать ее, перемещаясь со страницы на страницу неведомого мне текста.
Но если это и впрямь так, если моя судьба придумана неким «творцом», то… то ведь в ней не должно быть случайностей! Такие мастера не допускают погрешностей: каждый шорох травы здесь обязан быть наполнен смыслом, каждое висящее на стене ружье должно однажды выстрелить, все реплики и эпизоды приговорены перемигиваться между собой, любая картинка – что-то символизировать…
Если это так, если моя жизнь – не «случайная фотография», а произведение великого Автора, – тогда я прав: в нее стоит вглядываться до рези в глазах, вслушиваться до боли в ушах.
А если нет?
Всё осталось на своем месте – там, где было, и где пребудет. То же майское солнце льет предвечерний ласковый свет на избы и проулки села Глебово, тот же молодой алкоголик подходит, пошатываясь, к дому номер пятнадцать на улице Новой и, грузно навалившись на теплый штакетник, окликает хлопочущего в огороде хозяина. Сейчас тот пошлет его подальше и, высоко подняв тяжелую кувалду, что есть мочи грохнет ею по железной трубе. И еще раз. И еще… Но у меня больше нет сил смотреть на это.
Мне надо плыть… Я не знаю, что ждет меня впереди, что за сила влечет меня в путь, у меня шаткая опора – всего лишь пачка листов бумаги, исписанных моим торопливым почерком. Когда-то, много лет тому назад, Господь надоумил меня потратить один из летних отпусков на запись воспоминаний отца и матери, я истомил, измучил родителей ежевечерним «залезанием в душу», но, в конце концов, последние скобы были вбиты – и маленький плотик закачался на волнах. Теперь я могу шагнуть на него и, оттолкнувшись от берега, поплыть по беззвездной реке. Он ждал меня всё это время, он сухой и прочный, мой плот, – он должен выдержать!
Да, кругом тьма. Я лишен способности видеть, я слеп. По запаху ветра и вкусу воды невозможно ориентироваться; кроме плота, реки и собственного тела, мне нечего осязать; остается только слух. Я должен научиться слышать этот мир.
Что я стану делать, когда шест перестанет доставать до дна, когда незримый водоворот закружит мою опору и я перестану понимать, в какой стороне берег? Мели, перекаты, бревна-топляки, встречные суда… тысяча препятствий может возникнуть на моем пути!
Но мне пора. Прощай, твердый берег, прощай, оранжевое окошко, горящее во тьме. Тихо плещет вода под ногами, пружинят бревна, сырой воздух холодит лицо. В моих руках – длинная жердь, я упираюсь ею в дно… поехали…
Резкий толчок! – и, потеряв равновесие, я едва удерживаюсь на ногах. Плотик тяжелеет, оседает – я чувствую, что вода доходит до щиколоток.
Это – папа. Он поплывет со мной.
1993-2021
«Судовой журнал “Паруса”»
Николай СМИРНОВ. Запись 25. Спорок с шубы
Дочка, студентка, позвонила по телефону и – со слезами: ботинки, которые на прошлой неделе купили ей в Ярославле на рынке за 400 тысяч, оказались с браком: ботинок один лопнул. Это треть моей месячной зарплаты или месячная жены, а ей уже зарплату пять месяцев задерживают. Дочка сильно расстроилась, пошла на рынок к торговцу, а он извернулся: я отремонтирую за свой счет. А зачем нам они, отремонтированные?..
Пошла от торговца домой – мужик продаёт щенков. Возьми девушка за две тысячи. Она отказалась. Бери так! С расстройства, не подумав, зачем – и взяла одного и про ботинки забыла, принесла домой к хозяйке, где живет на квартире. А потом и к нам в мартовский выходной привезла.
Дворняга всю ночь скулила, спать не давала. Сегодня жених дочери понёс его топить, а навстречу мальчишка:
– Бери собаку!
– Бесплатно? – удивился мальчишка и взял.
Как в сказке: первый встречный – от Бога. А, может, и выдумал, чтобы не огорчать: отдал на прокорм диким зверям. У нас в городе в эти дни приехал зоопарк: разместился на площади, в кольце фургонов. Иду мимо – вой, как в лесу. Звери у них, говорят, голодные; на волков посмотрел и – не узнал, какие они жалкие, точно прибитые, меньше собачонок.
До восемнадцатого века жизнь в крупных городах мало отличалась от жизни во глубине России. Да и теперь наш мир-народ уездный, чем-то еще похож на тот, что жил в девятнадцатом, крестьянском веке. И заботы те же, и бились так же в бедности и лихих делах; будто встречая знакомые лица, читаешь разные записи еще и допетербургских лет. Но удивило меня, как сумасшедший царь, убивший родного сына в 1582 году, посылает на помин загубленных душ в Ферапонтов монастырь: «Да по Иване и Игнатье и по семидесяти человекам опальным, побиённым крест золотой с каменьями, да шубу во сто рублев, в помин царевича Ивана шестьсот рублёв. Да по убиённом сыне, по царевиче Иване Ивановиче, спорок с шубы венецианского бархату с петлями золотыми да бархату лубского, да сани с хомутом с песцовыми хвостами, и полость, и барсовый тюфяк, да по сыне же царевиче Иване Ивановиче, ожерелье, терлик, седло бархатное с камкою и четырнадцать рублев».