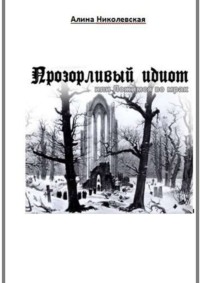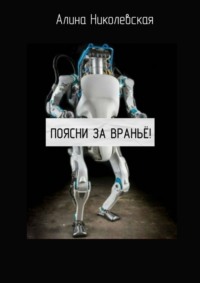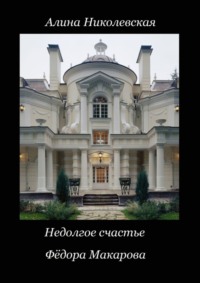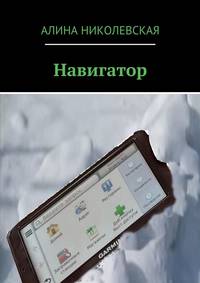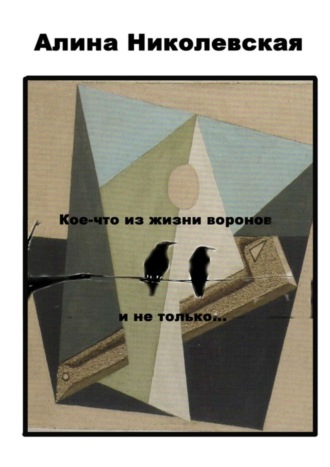
Полная версия
Кое-что из жизни воронов и не только…
Но не прошло и трёх недель, как спокойствие из моей души ушло. Ибо я понял – мой первый роман – дерьмо. Понял, потому что на страницах второго – действительно заполыхала нешуточная война. Там настоящие герои изгоняли героев выдуманных. Выдуманными были все эти Крэгги, Мэтты и роботы-убийцы. Сквозь их плоские картонные образы проступали реальные черты моих боевых товарищей, изъяснявшихся совсем другим языком, действовавших, исходя из совсем других побуждений, и плевать при этом хотевших на то, что, выламываясь из рамок заданного жанра, они загоняют в тупик меня.
Выход из тупика был только один – писать так, как хочется, и о том, что действительно знаешь.
И я стал писать о Западной Африке, где аромат пальмового масла сливается с запахом морского прибоя, где орхидеи с блюдце величиной ковром покрывают стволы гигантских деревьев, где огромные фонтаноподобные папоротники взмётывают к небу ажурные, покрытые спорангиями листья. И где периодически льётся кровь из-за возникающих то тут, то там родоплеменных междоусобиц.
Они возникают всегда неожиданно и вроде бы без причины, и так же неожиданно заканчиваются. Белые люди объясняют это по-разному. Одни считают, что всё дело в нестабильности политических систем африканских государств, а также в недостаточной приверженности их граждан общедемократическим ценностям. Другие воспринимают локальные гражданские войны, как коллективные приступы кровожадной мономании, напрямую связанной с климатом, с этой душной, влажной, знойной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему человека, пока, наконец, та не взрывается. По их версии – сидит у себя в хижине какой-нибудь анья – человек простой и добродушный, – сидит и тянет свою пальмовую настойку – отупевший, равнодушный, вялый, и вдруг хватает нож и бросается в соседнюю деревню, где живут сенуфо. По дороге к нему присоединяются другие анья, уже с автоматами Калашникова наперевес. Сенуфо, взбешённые нападением придурка с ножом, встречают пришельцев огнём гранатомётов…
Правителя государства Берег Слоновой Кости звали Феликс Уфуэ Буаньи, и он не был согласен ни с одной из этих теорий. Он был уверен – кровь льётся из-за Омулу и Эшу – богов религии макумба-кимбанда, которую исповедовал его народ. Омулу был богом войны, а Эшу – заведовал тёмными сторонами человеческой души, и оба привыкли к жертвоприношениям. Уфуэ Буэньи родился в самом начале двадцатого века и с детства преисполнился отвращением к человеческим жертвоприношениям, когда тому, на кого падал кошмарный жребий, сначала отрубали голову, потом руки и ноги, а затем вскрывали грудную клетку, чтобы достать сердце и лёгкие. Ребёнком он не мог заставить себя подойти к алтарю, на котором лежала вся эта расчленёнка вперемежку с другими подарками богам – бобами какао, обжаренными в масле зёрнами кофе, ананасами и плодами киви.
Неудивительно, что, став правителем, он запретил молиться местным божкам, сделав ставку на великого и милосердного бога белых людей Иисуса Христа. Чтобы всем стало ясно, насколько могущественен этот христианский бог, Уфуэ Буэньи принялся строить в своей родной деревне Ямасукро величественный храм, долженствовавший превзойти по размерам храм Святого Петра в Риме. И действительно, по мере возведения гигантского сооружения, дела в государстве шли всё лучше и лучше. В то время, как большая часть Чёрного континента неуклонно деградировала, скатываясь к нищете и анархии, как следствию непрекращающихся гражданских войн, Берег Слоновой Кости превращался в самую процветающую страну постколониальной Африки, став лидером по производству пальмового масла и какао.
Когда самый большой на земле христианский храм был построен, его приехал освящать сам Папа Римский. После чего Уфуэ Буэньи перенёс столицу из миллионного Абиджана в Ямасукро, и стал готовиться к смерти. Умер он, когда ему перевалило за девяносто, и почти сразу Берег Слоновой Кости, получивший новое название – Кот-д-Дивуар, – скатился в пучину нестабильности, а потом и гражданской войны. Когда она была вялотекущей, это никого особо не трогало. Но когда отморозки с обеих сторон принялись сгонять с земли иммигрантов-фермеров, вследствие чего на Нью-йоркской бирже взлетели цены на какао, мировая общественность взволновалась, и из Джибути в Абиджан срочно был переброшен дополнительный контингент войск французского Иностранного Легиона.
Легионеры расположились в буферной зоне, разделявшей проправительственную армию и формирования повстанцев. И по иронии судьбы этой зоной стала Ямасукро – родная деревня Уфуэ Буаньи. Африканские боги брали реванш, они торжествовали. Ведь на предхрамовой площади столицы, окружённой двумястами семьюдесятью двумя дорическими колоннами (каждая – высотой тридцать один метр), рвались бомбы и снаряды, а в опустевший христианский храм не приходили молиться о мире испуганные прихожане. Омулу и Эшу снова приступили к кровавой жатве, доказав тем самым, – существование древних языческих богов не зависит от воли человека. Их нельзя запретить указом и изгнать из дома, как надоевших родственников. Они всегда рядом, они здесь, даже, если их капища заброшены, а алтари не орошаются кровью приносимых в жертву животных и людей. Они сами возьмут себе крови, сколько захотят. И они брали. Потому что потери несли и противоборствующие группировки, и мешавшие им выяснять отношения легионеры.
Днём возле позиций миротворцев устраивали манифестации (типа «Убирайтесь домой!») толпы протестующей молодёжи. А ночью та же молодёжь, в основном, подростки четырнадцати-шестнадцати лет совершали вооружённые нападения на лагерь, молотя из «калашей» куда придётся и в кого придётся. Однажды, после одного такого набега легионеры не досчитались двух своих товарищей. Нашли их спустя несколько дней на кофейной плантации близ Ямасукро. Головы были отделены от тел и насажены на колья, воткнутые в землю. Рядом с изуродованными туловищами (внутренности наружу) лежали отрубленные руки и ноги.
Описание этой сцены далось мне непросто не потому, что описывать такое в принципе нелегко, а потому что я сам был в числе легионеров, обнаруживших страшные останки.
Одного убитого звали Бранко Радич (он был родом из Хорватии), другим был Остап. Я рванулся вперёд, не обращая внимания на крик сержанта Поля, приказывавшего остановиться. И обязательно расстался бы с жизнью, если бы не огромный гриф, отделившийся от расположившейся неподалёку стаи падальщиков в желании полакомиться напоследок глазами покойников. Он сел на голову Бранко и уставился на меня, прикидывая разделяющее нас расстояние. И тут раздался взрыв. Малолетние ублюдки приготовили ещё один подарок! Эта мысль была последней на фоне гаснущего сознания, после чего наступила темнота.
Позже, в госпитале, сопоставив рассказы ребят с собственными ощущениями, я понял благодаря чему уцелел – шрапнельная мина, находившаяся под каской Бранко, была направленного действия, наподобие советской МОН-100 (а может, это и была МОН-100!), и для летевших компактным роем осколков основной мишенью стала птица, разорванная ими в клочья.
*
Джим Моррисон пел: «Ты знаешь, день стирает ночь, ночь разделяет день…», когда я выключил CD чейнджер и стал собираться на работу. Сегодня я выходил в ночную смену, и по дороге в зоопарк, да и потом, бродя между вольеров, думал только об одном: «Почему Гаршавин отклонил мой роман?» Он сказал:
– К сожалению, мы ваше произведение не приняли.
– Не приняли?! – Я не поверил своим ушам. – Но почему?
– Без комментариев, – сухо произнёс он. – Не приняли, и всё.
– Пожалуйста, назовите причину! – взмолился я, ничего не понимая. – Вы отклонили мой первый роман «Месть роботов» по причине плохого стиля и неинтересного сюжета. И это правильно. «Месть роботов» – действительно неважный роман. Но этот – действительно хороший! Я, честно говоря, думал, что у вас возникнут претензии только к его названию – «Они возвращаются, потому что никогда не уходили».
– Да уж, с названием вы перемудрили! – засмеялся главный редактор. – А насчёт претензий, то пока они у вас могут быть только к самому себе. Так что, пишите, набирайтесь опыта и присылайте нам свои произведения. Всего хорошего, успехов!
С этими словами он повесил трубку, а я ещё минут пять оставался в кабинке междугородней связи, не решаясь выйти из-за шума в голове, сквозь который пробилась единственная здравая мысль: «Надо закрывать этот проект к чёртовой матери!»
Ведь претензий к самому себе у меня не было. Я работал над романом «Они возвращаются…» больше двух лет, и как работал! Поняв, что невозможно хорошо писать, не научившись хорошо мыслить, хорошо чувствовать, и отличать (в эстетическом плане) стоящее от нестоящего, я с рвением новообращённого занялся самообразованием. В ущерб сну и отдыху я читал классиков русской, европейской и американской литературы, посещал музеи, выставки, концертные залы, знакомился через интернет с крупнейшими явлениями мировой культуры, с художественными течениями и стилями, осваивал наиболее употребительные понятия теории искусства и терминологию, принятую в архитектуроведении. Все свои выпавшие на этот период отпуска, праздничные дни, да и просто выходные, я провёл, колеся по Европе в поисках новых эстетических впечатлений. Однажды, в мае проехал более пятисот километров до Гамбурга только для того, чтобы попасть на премьеру некоммерческого альтернативного фильма «Былая радость», и ничуть об этом не пожалел. Потому что фильм того стоил. Я смог по достоинству оценить работу режиссёра Келли Рейнхарда исключительно потому, что вырвался уже к тому времени из «тёмного невежества глухого». Тогда же, в Гамбурге понял – каждую новую книгу писать (каждую новую картину снимать) надо так, будто она последняя в жизни. Ничего не оставляя про запас. «Они возвращаются, потому что никогда не уходили» я писал с полной самоотдачей, так, что написать лучше не мог уже при всём желании. Вернее, мог, в части, касающейся стиля (типа, никакой приблизительности – нужные слова в нужном месте), но в целом, предел был достигнут. И этот предел показался Гаршавину лишь первой ступенькой лестницы, ведущей к вершине настоящего мастерства!
Сомнения терзали мою душу. Ибо, о каком мастерстве могла идти речь, если издательство «Гранада» издавало книги авторов, позволявших себе фразы, типа – «Он кивнул головой» (а чем ещё можно кивнуть – рукой, ногой, или…?), «Вошёл хорошо выхолощенный чиновник» (холощёный, на минуточку, означает кастрированный), «Двор покрывал густой мусор» (без комментариев), «Он снял плащ и повесил на предплечье» (может, всё-таки перекинул через руку?).
Такой перлит (имеется в виду не строительный материал, а совокупность вышеперечисленных перлов), может вдохновить на зарисовку, типа: «Во дворе, покрытом густым мусором, стоял хорошо выхолощенный чиновник. Он снял плащ и повесил на предплечье. Потом кивнул головой».
– Продвигаясь вдоль стен, я совался дулом в каждый проём, в каждую дверь.
Кто это сказал? Не я, точно.
Резко обернулся и увидел ухмыляющегося Сикола.
– Это сказал герой романа «Честь – любой ценой» спецназовец Волин, – пояснил он, сделавшись серьёзным. – Автор – некто Тушков. Тоже, кстати, печатается в «Гранаде». Вы случайно не знаете, как можно сохранить честь любой ценой? Я вообще-то всегда считал, что честь цены не имеет.
Я хотел было сказать: «Да ладно, работая в таком ведомстве…". Но он меня опередил, сообщив, что будет очень разочарован, услышав банальную чушь насчёт его службы в силовых органах.
– Вы же не жалкий совок, который дефицит собственной потенции возмещает верой в потенцию «большого брата»? Нет? Ну вот, тогда и принимайте меня таким, как я есть. Я Сикол. И этим всё сказано.
Я хотел было послать его на три буквы, но он снова меня опередил, заявив:
– Туда я пойти всегда успею. Давайте лучше о вашей рукописи поговорим. «Они возвращаются, потому что никогда не уходили». Потрясающее название! И роман замечательный! Примите мои поздравления!
– С чем? – мрачно спросил я. – Его же не приняли. И вам это прекрасно известно.
– Известно, – не стал отпираться Сикол. – Но мне также известно и другое. А именно то, что Гаршавин его не читал.
– А он в принципе и не обязан, – пожал я плечами. – У него есть штат сотрудников, и он им доверяет.
– Нет, – затряс головой мой собеседник. – Вашу рукопись вообще никто в «Гранаде» не читал. Гаршавин положил себе за правило не рассматривать произведения тех авторов, кто не прошёл с первого раза. А вы с вашей «Местью роботов» не прошли.
– Чушь, – сказал я, начиная нервничать. – Он же не отказал в рассмотрении второго моего романа! Наоборот, сказал, присылайте обязательно, первая неудача ещё ничего не означает.
– А я настаиваю на том, что никто в «Гранаде» вашу рукопись не читал, – выпучил свои серенькие глазки Сикол. – Могу в этом поклясться. О! Могилой своей матери клянусь!
– А что, ваша мать уже умерла? – не удержался я от недопустимого в других обстоятельствах вопроса.
– Нет, – не моргнув глазом, ответил он. – И вряд ли когда-нибудь умрёт. Я поклялся её могилой, потому что у вас так принято.
«У кого это «у вас?», – подумал я. А вслух сказал:
– Похоже, ты, парень, всё-таки из «конторы».
Он фыркнул, как оцелот, у клетки которого мы как раз стояли, и закатил глаза к небу, типа, удивляясь моей тупости. Потом вдруг его губы растянулись в улыбке:
– Я рад, что мы перешли на «ты». – Он удовлетворённо потёр руки. – Я ведь твой друг, а друг это….
– Кончай гнать про дружбу, – оборвал я его. – И вообще, вали отсюда.
– Хорошо, – неожиданно легко согласился он. – Отвалю прямо сейчас. Поговорим завтра, когда всё станет ясно.
Я хотел было спросить: «Что станет ясно?» Но не спросил, так, как и сам уже понял, – завтра с утра пойду звонить Гаршавину с целью внести ясность в наши отношения.
*
Гаршавин вначале сделал вид, что меня не узнал, и не понимает, о каком произведении идёт речь.
– Ах, Бредар, да, да, припоминаю. Роман «Они возвращаются…». Ну и что вы от меня ещё хотите?
– Я хочу, чтобы вы ознакомили меня с вашей внутренней рецензией.
– Исключено, – зло произнёс он. – Это против наших правил. Мы этого никогда не делаем.
– А для меня сделайте исключение, – я старался не терять самообладания. – Я ведь живу вдали от Родины, в Амстердаме. С соотечественниками общаюсь нечасто и это для меня, как праздник. Неужели так трудно поговорить со мной по-человечески?
– Ну и о чём вы хотите поговорить? – явно смягчаясь, спросил он.
– О стиле, – ответил я. – О моём стиле, который вам так не понравился.
– Так, ладно. – Было слышно, как Гаршавин кликает мышью и читает себе под нос фрагмент первой страницы моей рукописи. – Стиль у вас какой-то чересчур брутальный. От Арча Стрейтона что ли нахватались. Вот, смотрите, цитирую – «Филлип Боссан, шатаясь, вылез из машины, и сел на землю, прислонившись к колесу, – сорванная с головы кожа свисала с уха, кровь, поблёскивая, стекала по щеке и капала на правое плечо, где темнело вытатуированное изображение королевской лилии, венчающей кольцо». Вы понимаете, что то, что хорошо у Арча Стрейтона в его «Универсальном солдате», плохо у вас, когда вы описываете войну роботов?
– Я не описываю войну роботов, – сказал я. – Я описываю реальную войну.
– А возвращается тогда кто, инопланетяне? Вы же назвали роман «Они возвращаются, потому что никогда не уходили»! И потом, эта лилия, венчающая кольцо. Разве это не тавро, которым метят в вашем романе роботов-убийц?
– Это не тавро. Это эмблема французского Иностранного Легиона, основанного в тысяча восемьсот тридцать первом году согласно декрету короля Луи Филиппа Орлеанского, задумавшего убрать из страны остатки иностранных полков Наполеона, представлявших серьёзную опасность для власти. Отправив их в Северную Африку, он….
– Я не хуже вас знаю историю, – раздражённо перебил меня Гаршавин. – Так что хватит отнимать у меня время. Почитайте лучше других авторов, поучитесь у них, а когда напишите что-нибудь стоящее, присылайте нам.
Произнеся этот текст, он повесил трубку, не дав мне возможности произнести свой текст, который был бы поучительным для авторов «Гранады» в смысле использования идиоматических выражений.
А может и хорошо, что он не дал мне этой возможности, этот урод, водивший меня за нос пять месяцев! Фактически издевавшийся надо мной! Если бы я его обложил, я бы тем самым снова вступил в контакт с этой мразью, а я этого категорически не хотел. Как не хотел вступать в контакт вообще ни с кем. Кроме Зорро, с которым мы отправились к устью канала Нордзе – повыть, глядя, как волны Северного моря набегают на берег, разбиваясь о мол.
Волк сидел неподвижно и внимательно наблюдал за стремительно летающими над водой бакланами, ловко выхватывающими рыбу длинными, с острыми крючками на конце, клювами. Я тоже за ними наблюдал и думал о несчастной судьбе своего романа, написанного, как ни высокопарно это звучит, моей кровью и кровью моих товарищей. При этом себе как автору я почти не сочувствовал. Зато остро чувствовал свою вину перед Бранко и Остапом, которых принёс в жертву своим писательским амбициям. Ведь, описав их жуткую кончину, я словно бы заставил их снова умереть, пройдя через нечеловеческие мучения. И вот теперь они валяются уже окончательно убитые в мусорной корзине гаршавинского компьютера вместе с истовым христианином Уфуэ Буаньи и моими надеждами увидеть своё произведение изданным. Почему и надежды в мусорной корзине? Да потому что от одной мысли – отправить роман в другое издательство и снова месяцами ждать ответа, – хотелось блевать!
Должно быть, взор мой был блуждающим и не сфокусированным, ибо я не сразу заметил Сикола, сидевшего по правую лапу от Зорро, в то время, как сам я сидел по левую. Странным мне показалось и то, что волк не выказывал по этому поводу никакого недовольства, и то, что Сикол не проявлял к моей персоне никакого интереса. Он глядел в морскую даль, весь подавшись вперёд, и походил недвижностью на деревянную фигуру языческого божества, вроде тех, что украшали носы боевых челнов викингов.
Почувствовав мой взгляд, он повернулся.
– Ну, что, убедился, что пять месяцев тебе делали мозги?
Я кивнул.
– Только я не понимаю, зачем им это понадобилось? Гаршавину тому же самому.
– А затем, что он садист, – быстро произнёс Сикол, словно только и ждал этого вопроса. – Он самый настоящий садист, каких ты, наверняка, встречал на войне.
– А при чём здесь война? – не понял я.
–А при том, что нет разницы между извергом в камуфляже, физически терзающем свою жертву и, в конце концов, вырезающим ей сердце, и извергом в цивильном костюме, мучающим человека заведомо тщетным, многомесячным ожиданием и надрывающим ему сердце немотивированным отказом.
– Нет, – не согласился я. – Это перебор. Разница всё-таки есть.
– Для тебя есть. – Сикол упёр в меня указательный палец. – Для сильного, тренированного парня, прошедшего выучку у капрал-шефа Жака Дорньера. Но не для копирайтера местного телевидения из Костромы, умершего на прошлого неделе исключительно по вине садиста Гаршавина. С ним он поступил ещё гаже, чем с тобой. Не просто отклонил его первый роман, но послал ему почти хвалебную рецензию с предложением изменить концовку и поработать над стилем. Обрадованный копирайтер не только полностью переделал свой роман, но и написал книгу-продолжение, не подозревая, что в «Гранаде» его творения прямиком отправятся в мусорную корзину. А ведь он творил, отрывая время от сна, забросив детей и жену, которая, устав скандалить, практически в одиночку тянула дом, горбатясь на двух работах, плюс дача с огородом. И что? После полугодового ожидания – отказ по существу, и отказ аргументировать этот отказ. Не приняли и всё. Пишите и обрящете. Всего хорошего, успехов вам и творческих удач. Писать несчастный копирайтер больше ничего не стал, так как обрёл в тот же день вечный покой, наступивший по причине остановки сердца. Он умер, не подозревая, что материальная составляющая успеха, которого он так жаждал, исчисляется всего лишь шестьюстами долларами США. То есть, по триста долларов за роман. В такую сумму издательство «Гранада» оценивает труд начинающих писателей.
– Триста долларов?! – переспросил я, не веря своим ушам. – Не может быть! Это же…. Да это же вообще ни на что не похоже!
– Похоже, – усмехнулся Сикол. – Это похоже на хрен с маслом. Или на селёдочную голову, являющуюся голландским символом полного облома. Но самое интересное, что большинство авторов прекрасно осведомлено об условиях сотрудничества.
– И что, всё равно пишут?
– Пишут, – кивнул он. – Ты же пишешь.
– Я не знал, что сумма аванса так позорно мала. Если бы знал, то «Месть роботов» точно не написал бы.
– А «Они возвращаются…»?
– Не знаю, – немного подумав, сказал я. – Может, да, а может, нет.
– Нет – исключено, – безапелляционно заявил Сикол. – Потому что настоящие книги пишутся не ради денег, а ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться среди людей, и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего – тлена и забвения.
Сказанное показалось мне чересчур пафосным – и по форме, и по содержанию, и я сказал:
– Когда писал, то не думал, что пролагаю себе этим путь в бессмертие.
– Думал, – упрямо мотнул головой Сикол. – Ты просто не отдавал себе в этом отчёта. Что же касается идеи бессмертия, то она – самый большой человеческий соблазн. Искушение, перед которым невозможно устоять. Эксплуатируя эту идею, новые религии – иудаизм, христианство и ислам, сбросили в своё время с пьедестала древних языческих богов, делавших упор на прославление природы и человека, как царя её, но не обещавших последнему жизни после смерти.
Я поморщился.
– А без религиоведения нельзя?
– Можно, – улыбнулся мой собеседник. – Только суть от этого не изменится. А суть в том, что все хорошие книги сходны в одном, – каждому прочитавшему кажется – эта история действительно случилась, и так навсегда она при нём и останется. История же эта – твоя. И всё там твоё – и ужас, и восторг, и печаль, и сожаления, люди и места, и какая была погода. О чём бы человек ни писал, он пишет о себе. А теперь представь, что читатель у тебя не один, – их сотни, тысячи, десятки, а может, и сотни тысяч. И в каждом из этих сотен тысяч сердец будешь жить ты. Пусть на пространстве не больше молекулы или атома, но будешь жить. Это ли не истинное бессмертие?
Сикол встал, театральным жестом откинул со лба волосы и продекламировал:
О, книги, в вечность, врезающиеся, как нож!
О, толстые книги, написанные от руки!
Сколько упорства, терпенья и жадной тоски,
Сколько согнутых спин, сколько рук, одолевших дрожь!
Последнюю строчку он почти пропел, сильно растягивая гласные, как это любят делать поэты, читающие собственные стихи. И Зорро, подняв морду к небу, поддержал его протяжным воем.
Боясь, что поэтический утренник (да ещё с вокальным сопровождением) будет продолжен, я быстро спросил:
– А почему ты решил, что мои книги способны врезаться в вечность? Я и пишу, кстати, на компьютере, без преодоления дрожи в руках.
– А это неважно, каким образом ты создаёшь свои тексты, – строго глянул на меня Сикол. – Важно несомненное присутствие в них энергетического заряда. А энергетическую составляющую искусства, понимаемого, как художественное творчество, люди ценят больше эстетической. Примером тому может служить феномен Владимира Высоцкого, который щедро делился с людьми жизненной силой. Делится и сейчас, после своей физической смерти, помогая жить и спасая от безумия.
– Не все его слушали, – возразил я, больше из духа противоречия, чем по делу.
– Не все, – согласился Сикол. – Но те, кто скорее был жив, чем мёртв, слушали.
– А знаешь, – сказал я, решив быть откровенным. – Я ведь тоже сейчас не очень-то и жив. В том смысле, что вряд ли смогу в будущем написать что-либо стоящее. А от мысли отправить «Они возвращаются…» в другое издательство блевать тянет. Так что я решил завязать с писательством в принципе. Закрыть, короче, проект.
– Брось. – Он хотел похлопать меня по плечу, но не решился и потрепал по загривку Зорро. – Закрыть проект уже не в твоих силах. Ты уже вкусил от запретного плода и не сможешь жить, не творя. Правда, творить, и очень успешно, ты сможешь при одном условии, – если рассчитаешься с Гаршавиным. Потому что невозможно приступить к новому, не расквитавшись со старым.
Потому что потому, окончание на «у». И начало тоже на «у». Потому что слово «убить», а Сикол явно предлагал мне убить главного редактора «Гранады», начинается на эту букву. Я же не собираюсь больше произносить никаких слов и букв. Я просто сброшу этого начитанного гада в море и буду смотреть, как он, выпучив глазёнки, машет ручонками, выгребая к берегу.
Я взглянул на оконечность мола, прикидывая, сколько метров придётся пробежать с брыкающимся уродом подмышкой. Потом перевёл взгляд на урода и поразился его бесстрашно вздёрнутому подбородку и гневному сверканию серых глаз.